Изменение позиции по вопросу об ответственности Сербии за развязывание Первой мировой войны, произошедшее в 1990-е гг
Изменение позиции по вопросу об ответственности Сербии за развязывание Первой мировой войны, произошедшее в 1990-е гг

Доктор Людвиг Биттнер, редактор публикации австро-венгерских дипломатических документов

Генерал Эдмунд Глейзе фон Хорстенау, редактор публикации австро-венгерских военных документов
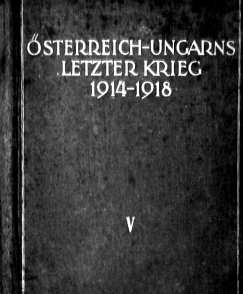
«Последняя война Австро-Венгрии 1914 –1918». Том V

Книга Анники Момбауэр о контроверзах и консенсусе относительно причин Первой мировой войны

Дополненное переиздание книги Жана-Жака Бекера «Год 14»

Английское издание 2007 г. книги А. Митровича «Сербия в Первой мировой войне»
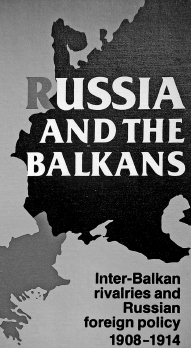
Книга канадского профессора Рососа о российской политике на Балканах в 1908 –1914 гг
На Западе из-за необходимости совместного противостояния большевизму уже в 1920-е гг. стали проявлять готовность облегчить Германии репарации и в целом бремя ответственности за начало войны. В 1930-е гг. в интересах «умиротворения» был сделан еще один шаг по пути молчаливой ревизии Версальского договора. Тенденция продолжилась в годы холодной войны, которые прошли под знаком пересмотра оценок и концепций, что нашло отражение в коллективных заявлениях историков. С одной стороны, актуальной была потребность консолидации западного блока, для которой следовало избежать усугубления уныния, охватившего народы и государства, проигравшие обе войны. С другой – кризисные ситуации, возникавшие во взаимоотношениях двух блоков и грозившие перерастанием холодной войны в «горячую», возродили интерес к изучению исторического наследия 1914 года, в котором великие державы «соскользнули» в пропасть самоуничтожения. Гонка вооружений и необходимость поддержания паритета сил напоминали историкам о хорошо знакомом им прошлом, поводом переоценить которое служили и приближавшиеся круглые даты – 1964, 1984, 1994 гг. Дополнительный интерес к теме привлекали военные конфликты на Балканах, разразившиеся в 1990-е гг., а также глобальное перераспределение сфер влияния. Одним словом, геополитика определяла направления развития историографии.
За прошедшие годы многие историки обращали внимание на то, что политическая ситуация в ФРГ также оказывает значительное влияние на ход научной дискуссии. Новые исследования, посвященные политической и особенно социальной истории Германии, поставили под сомнение традиционную геополитическую трактовку причин войны (пребывание в окружении враждебно настроенных союзников). Фриц Фишер сформулировал собственную «контроверсию», которую многим хотелось бы опровергнуть или проигнорировать. Это стремление, вполне умеренное, явственно проявилось после поражения социал-демократов в 1981 г. и прихода Гельмута Коля на пост канцлера. Стало возможным в позитивном ключе писать о германском национализме, чем не преминули воспользоваться представители консервативной историографии. По словам Анники Момбауэр, «многие немцы поняли, что заканчивается время, когда приходилось оправдываться и каяться» за войны, оставшиеся в далеком прошлом. Снова заговорили о патриотизме, о котором раньше стыдливо умалчивали[348]. Суть произошедших перемен в 1999 г. изложила историк Мэри Фулбрук: «В 1980-е гг. западногерманский канцлер Гельмут Коль, которому помогали историки Михаэль Штюрмер и Андреас Хильгрубер, а также специалист по историософии Эрнст Нолте, приложил значительные усилия к тому, чтобы “нормализовать” массовые народные представления о прошлом Германии и сформировать новую национальную идентичность посредством избирательного изложения исторических событий в книгах и статьях, а также в музейных экспозициях»[349].
Разумеется, не только Первая, но и Вторая мировая война, а также прочие сюжеты не могли остаться в стороне от процесса «переформатирования» исторической памяти. Дополнительным импульсом к нему послужили объединение Германии, распад СССР, а также кризис и война на Балканах.
Представился шанс указать на «подлинного виновника и деструктивный фактор», который в 1990-е гг. повторно перессорил Европу, а в 1914 г. и втянул ее в войну. Параллельно началось наступление идеологии глобализации, прославлявшей исчезнувшие мультиэтничные и мультирелигиозные империи (за исключением Российской). На прежнее стремление к экономической свободе и правам человека, реализовывавшееся посредством восстаний и вооруженной борьбы, навесили ярлык нелегитимного «национализма». Пересматривалось историческое значение национально-освободительных движений, которые стали отождествляться с современным национализмом и шовинизмом. Однако не все «национализмы» заслуживали одинакового подхода. К греческому, болгарскому, албанскому, венгерскому, румынскому, польскому, итальянскому и югославскому вопросов не имелось. Единственный сомнительный – сербский. Оставалось только отмести в сторону серьезные достижения исторической науки и воспользоваться «интеллектуальными» ресурсами австро-венгерской пропаганды и более позднего ревизионизма. И можно проводить параллель между прошлым и настоящим – между «1914 г.» и «Сараево» со «Сребреницей».
И в 1990-е гг. и в первые полтора десятилетия наступившего XXI в. опубликовано множество значительных книг, статей и тематических сборников, затрагивающих соответствующую тематику[350]. Однако мы сосредоточились лишь на тех, что рассматривают или пересматривают причины и поводы развязывания Первой мировой войны, а не все ее четырехлетнее течение. Исследования, о которых идет речь, написаны на разных языках и освещают, наряду с интересующими нас вопросами, многие другие проблемы более частного характера. Перечисление всех новых или дополненных изданий, которые появляются едва ли не каждый день, потребовало бы слишком большого времени и пространства. Во всех работах, привлекших наше внимание, имеется по одной главе, или разделу, посвященному «Июльскому кризису 1914 г.» или «Сараево в 1914 г.». Излагая события, авторы опираются на близкие им трактовки и используют часто один и тот же набор наиболее известных книг.
Если обобщать, то можно назвать три основных течения, оформившихся за последние двадцать лет: первое, позиции которого в Германии и Австрии укрепились благодаря достижениям новой историографии, ставит во главу угла империалистические побуждения, главным образом стремление Германии к перераспределению сфер влияния; второе – умеренно консервативное, – которое, не отвергая новых открытий, настаивает на том, что «ближайшее будущее» уготовило некие угрозы Австро-Венгрии и Германии, что и подтолкнуло их к «превентивной войне»; третье сводит всю проблему начала войны к Балканам, нещадно демонизируемым в ходе пропагандистских медийных кампаний. Этот регион, если верить приверженцам направления, трижды на протяжении ХХ в. становился источником и парадигмой всех мировых проблем. Условно можно говорить и о четвертом течении, которое стремится к более адекватному рассмотрению роли остальных участников кризиса и войны. Если посмотреть еще шире, не составит труда выделить дополнительные тренды. Речь идет о новейших теоретических и прикладных исследованиях национальной идентичности, указывающих на «старые», «новые» и «запаздывающие» нации, а также о работах, посвященных «исторической памяти», «массовым убийствам», «экономике», «миграциям», «истории полов» и т. д.
По словам Андрей Митровича, немецкий историк Фриц Фишер в своих монографиях «Рывок к мировому господству» и «Сговор элит» разоблачает три основные догматические представления, которые сформировались в германском национальном сознании после Сараевского покушения, то есть в течение межвоенного времени. Первая догма гласит, что рейх в 1914–1918 гг. вел оборонительную войну и, даже более того, «борьбу за существование». Согласно второй не рейх развязал Первую мировую войну. Третья, для которой первые две служат идейным обоснованием, утверждает, что нацистский рейх, который, безусловно, начал Вторую мировую, представляет собой не логичное продолжение предшествующей немецкой истории, а некое случайное, незакономерное явление[351].
Фишер продемонстрировал, что существовало стремление к мировому господству, обретение которого зависело от решения определенных задач, перечень которых менялся, хоть и не существенно, вместе с общей международной обстановкой (Imperium Germanicum). Историк вместе с Иммануилом Гайсом и другими своими сотрудниками указал на все действия, которые привели к считавшемуся единственно возможным «решению» и которые были продиктованы желанием не упустить шанс, представившийся после Сараевского покушения. Книга «Сговор элит» подтвердила, что главная цель внешней политики Германии оставалась неизменной с 1871 г. по 1945 г. Под влиянием этих научных достижений историкам-консерваторам пришлось несколько смягчить собственную позицию, сформулированную еще в межвоенное время. Людендорфу с близкими ему пангерманистами они стали приписывать большую часть ответственности, освободив от нее всех остальных. При этом параллельно некоторые профессоры, как, например, Андреас Хильгрубер (Andreas Hillgruber) и Вольфганг Момзен (Wolfgang Mommsen), начали вводить в оборот такие понятия, как «превентивная война», «подразумевающийся риск», «хаос поликратии» и т. п. 1980-е гг. продемонстрировали нежизнеспособность старого мифа, многие из идейных сторон которого обрели новую форму выражения. Сам Фишер никогда не уклонялся от полемики (борьбы), будучи убежденным, что прошлое имеет непосредственное отношение к современным немцам, их соседям, да и ко всему миру[352]. Как и профессор Кантровиц, он принял на себя многочисленные удары, нанесенные исподтишка. Так, министр иностранных дел Герхард Шрёдер, следуя совету старых консервативных историков, лишил Фишера средств, выделенных ему Институтом Гетте и предназначавшихся для оплаты транспортных расходов во время поездки с лекциями по американским университетам. Дуайен германской историографии Герхард Риттер (Gerhard Ritter) сравнил это турне с «национальной трагедией»[353].
По словам профессора Бергхана, после многолетней и малорезультативной дискуссии на тему ответственности за войну, в ходе которой германские историки возлагали вину то на Тройственное согласие, то на всех в равной степени, наконец-то произошел прорыв – появилась «контроверсия» Фишера, с которой согласилась значительная часть научных кругов, интересующихся непосредственными причинами войны. Основной ее тезис гласит: Европу в пропасть столкнули обитатели императорского дворца в Берлине. «Перед 1 августа эти люди вместе с ястребами в Вене целую неделю сознательно усугубляли кризис, хотя у них имелись все возможности для его разрешения». Опираясь на Бергхана, который, в свою очередь, соглашается с позицией Фишера и его последователей, мы можем констатировать, что в течение нескольких недель накануне войны в рейхе имел место судьбоносный конфликт между военными и гражданскими правящими кругами. Мольтке с единомышленниками не желал упускать возможность «разделаться с Антантой»[354]. Что касается его австро-венгерского коллеги Конрада, то он с 1 января 1913 г. по 1 июня 1914 г. 24 раза требовал начать войну с Сербией[355].
Со времени пребывания у власти социал-демократов в этом ключе стали писать и германские школьные учебники, за исключением тех, по которым преподают в Баварии.
Джеймс Джолл в своей получившей широкое распространение работе о причинах войны указывает на психологический фактор (“the mood of 1914”), имевший критическое значение для сползания Европы в хаос. При этом историк оговаривается, что на разные страны и общественные группы он оказывал неодинаковое воздействие, поддающееся только приблизительной оценке. Автор утверждает, что на каждом уровне присутствовала готовность пойти на риск и принять войну как средство решения многих политических, социальных и международных проблем. Джолл призывает к изучению менталитета европейских правителей и их подданных, «так как именно в этой области кроется ответ на вопрос о причине войны». При этом нельзя игнорировать такие категории, как «страх», «напряженность», «разочарованность», «надежды масс на то, что им станет лучше, легче, сытнее» и т. д.[356] Отметим, что то, о чем говорит Джолл, не новость для остальных исследователей, многие из которых указывают, что за массовым психозом стояли определенные силы, его вызывавшие и направлявшие в нужную для себя сторону. Средства массовой информации провоцировали военную истерию, которой власти предержащие «вынуждены были соответствовать». Одновременно газеты в Германии и других государствах замалчивали антивоенные демонстрации, ничуть не менее массовые. Демонизация противника, расистские лозунги, утверждения о существовании «высших» и «низших» ступеней цивилизованности, «естественных правах», «немецком культурном духе» и бездуховности славян – все перечисленное в совокупности и определяло джолловские «настроения 1914 г.», когда чаша весов колебалась между войной и миром.
Наряду с историографией, которая искала новые формы обработки и анализа источников, завоевывала и отстаивала собственные позиции в многолетней дискуссии, сегодня присутствуют и иные, менее научные литературные течения, которые, впрочем, в гораздо большей степени могут считаться отражением своего времени. Речь идет о работах, выполняющих, так сказать, политическую миссию. Историку, представляющему территорию бывшей Югославии, не могут не мозолить глаза популярно написанные книжки, напечатанные крупными мировыми издательствами и воспроизводящие риторику межвоенной (потерпевшей поражение) Европы. Вслед за «краткими историями» Боснии и Косово, которые политики раздавали журналистам и своим еще менее образованным сотрудникам, накануне столетия войны появились работы, «раскрывающие» долго скрывавшегося ее виновника – «сербский национализм», злоумышлявший разрушение обустроенной и цивилизованной империи, которая несла Балканам прогресс и стабильность. Вспомнили про «Начертание» Илии Гарашанина (1844) – провозвестника проекта «Великой Сербии», про склонность к убийствам монархов (1903, 1914 гг.) и т. д. Одним словом, обнаружен главный и единственный фактор нестабильности на Балканах, страдающий от врожденного «дефекта менталитета»[357].
Профессор Милорад Экмечич неоднократно разоблачал мифы, ставшие плодом межвоенных дискуссий о «военной ответственности» и воспринятые различными национальными и националистическими идеологиями. Один из таких мифов родился в результате поверхностной интерпретации «Начертания» Илии Гарашанина. Документ, имеющий выраженную международную подоплеку, редактировали государственные деятели, у которых были основания скрывать от Вены собственное намерение посотрудничать с хорватами. И тем не менее в 1930-е гг. в Германии и Австрии про него заговорили как про отправную точку «сербского проекта». Членов «Народной одбраны», действовавших в 1908–1914 гг., стали отождествлять с агентами Гарашанина, которые устанавливали контакты с лидерами югославян на местах. Следует признать, что сербские и югославские историки тоже апеллировали к «Начертанию», дабы продемонстрировать глубокие корни неизменного стремления югославян к построению общего государства[358]. Затерявшийся в гарашаниновских бумагах документ, про который не вспоминали до его обнаружения и публикации в 1906 г., стал трактоваться как обоснование не только сербского империализма (гегемонии), но и этнических чисток, произошедших в новейшее время. В 1940-е гг. подобные спекуляции, выходившие из-под пера ностальгирующих по австро-венгерским временам, пользовались особым спросом в так называемом Независимом государстве Хорватия. Сегодня в том же ключе пишут некоторые историки, причиной войны называющие сербский заговор и российские притязания[359].
О том, как в 1990-е гг. политический контекст влиял на научные оценки сербского национализма, можно судить на примере блестящей и воистину инновационной книги Найла Фергюсона (Niall Ferguson) «Горести войны» (Pity of the War). Коротко касаясь истории возникновения в XIX в. национальных государств на Балканах и в Европе, автор пишет, что, хотя сербское правительство и не подчинялось воле России, как болгарское, «его политику можно назвать агрессивно националистической и экспансионистской». Того, что Пьемонту удалось в 1850-е гг., а Пруссии – в 1860-е гг., Сербия хотела добиться в начале ХХ в., а именно: «расширить собственную территорию, прикрываясь идеологией “югославянского” национализма»[360]. Ни слова о национально-освободительном движении, о том, что Сербия была центром притяжения для своего окружения. Имели место только притязания Сербии, обращенные вовне. Будем справедливы, ни о чем подобном не говорится и применительно к другим народам и государствам. В фокусе внимания автора лишь территориальный вопрос. При этом Фергюсон отмечает цинизм Лондона и Парижа, желавших грекам и сербам «успехов против турок, но только в пределах дозволенного великими державами»[361].
Манфред Раухенштайнер (Manfred Rauchensteiner) в книге, увидевшей свет в 1993 г., совсем в «модерном» духе утверждает, что Франца Фердинанда «убил террорист, находившийся под сербским контролем». Австро-венгерские власти были уверены в соучастии сербского правительства в убийстве, что и подтвердилось, когда стали доступны документы Салоникского процесса (вывезенные из Югославии в 1941 г.). Выяснилось, что некоторые члены правительства знали о планировавшемся теракте. Позднее этот тезис доведет до абсурда историк Макмикин, заявивший, что офицеров на процессе судили за участие в аттентате на эрцгерцога. Как мы уже указывали ранее, автор предполагает, что таким образом правительство хотело замаскировать свое участие и снять с себя ответственность за покушение[362].
Британский историк Марк Корнуолл (Mark Cornwall) в первой половине 1990-х гг. озвучил более-менее корректные оценки роли Сербии. Некоторые преувеличения, как нам кажется, обусловлены общей атмосферой того времени. Одним из них можно считать утверждение, будто война была на руку сербскому правительству, так как позволила ей решить ряд внутренних проблем. Согласно имеющимся «доказательствам» Сербия в 1914 г. проявляла большее упрямство и независимость, «чем это кажется историкам… Сербия была готова отвергнуть австрийские требования, которые противоречили статусу суверенного и “цивилизованного” государства (так в оригинале. – М. Б.)… Поэтому правительство сформулировало по собственному усмотрению (так в оригинале. – М. Б.) миролюбивый и одновременно холодный ответ… По ситуации на 25 июля королевство не возражало против локальной войны с Австро-Венгрией… Пашич полагал, что Великая Сербия может родиться только в огне общеевропейской войны. И сама Сербия поспособствовала тому, чтобы эта война началась, отказавшись во время Июльского кризиса вернуться в положение австро-венгерского сателлита (sic!)»[363].
Следует отметить, что к противоположным умозаключениям автора должно было подтолкнуть уже само впечатление, которое на современников произвел ультиматум, казавшийся «неприемлемым» даже немцам с австро-венграми. Его подлинную суть сразу раскрыли и в Лондоне, и в Петербурге, и в других столицах, в которых послам Монархии приходилось выслушивать заявления, что этот «ужасный документ» преследует единственную цель – развязать войну. Что касается сербского ответа на ультиматум, о содержании которого стало известно 26 июля, то ему отдавали должное за готовность пойти на максимально возможные уступки ради сохранения мира. Кому-то может показаться «спорным» комментарий российского министра иностранных дел Сазонова: «Умеренность и стремление дать Австро-Венгрии удовлетворение превосходят все ожидания. Мы не видим, какие еще требования можно предъявить… Если только венский кабинет не ищет предлога для войны». Или «некомпетентен» болгарский премьер Радославов, признавший, что «Сербия своим ответом на австрийскую ноту продемонстрировала изрядное миролюбие и пошла на все возможные уступки». Может быть, «пристрастно» мнение французского МИДа, в котором австро-венгерский посол услышал, что «по общему убеждению Сербия сделала все возможное и поэтому вправе рассчитывать, что Австро-Венгрия не совершит ничего непоправимого»[364]. Если действительно ответ не отличался предупредительностью и ставил крест на дипломатическом решении, как тогда объяснить, что самое сильное впечатление он произвел на берлинские дипломатические круги, на двор и в целом на военную партию. Канцлеру Бетману стоило больших усилий поддержать боевой настрой кайзера, настроение которого в корне переменилось после чтения сербского ответа: «Он решил, что отпали все причины для войны»; кайзер «больше не хотел, чтобы Австрия ее вызывала». Он был готов бросить Австро-Венгрию, если она начнет военные действия. Отрезвляюще подействовали слова военного министра Фалькенгайна, заявившего Вильгельму, что «от него более ничего не зависит». И Бетман полагал, что кайзер не вправе вмешиваться. Колесо завертелось[365].
М. Раухенштайнера все вышеприведенное ни в чем не убеждает: «Тщательно продуманный ответ на венский ультиматум был рассчитан на то, что его хорошо примут европейские правительства. Однако он ни в коем случае не подразумевал безусловного принятия требований, адресованных Белграду. Тот факт, что Сербия за несколько часов до отправки ответа объявила мобилизацию, свидетельствует о том, что сербское правительство осознавало последствия такого ответа»[366].
Таким образом, сербское правительство не ставило цель избежать войны, ее ответ был рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на великие державы. Не веря в то, что Австро-Венгрия поверит ей, Сербия приступает к мобилизации до вручения ответа на ультиматум, что служит «доказательством» ее «подлинных» намерений. Не отличающаяся новизной конструкция – плод межвоенных изысканий ревизионистов, стремившихся дезавуировать как аргументы в пользу того, что Австро-Венгрия и Германия желали войны, так и заявления дипломатов и государственных деятелей, полагавших, что позиция Белграда может служить основой для дипломатического разрешения кризиса.
Как и Раухенштайнер, Хью Страхан убежден, что приказ о мобилизации отдан 25 июля после обеда, так как Пашич не сомневался, что Австро-Венгрия приняла решение воевать. При этом британский исследователь считает, что сербский премьер не мог продемонстрировать слабость на внешнеполитической арене, так как это помешало бы ему выиграть предстоящие парламентские выборы. «Следовательно, Сербия прибегла к военным мерам до того, как исчерпались все дипломатические средства», – пишет Страхан[367].
Кристофер Кларк вслед за Раухенштайнером, но не ссылаясь на него, указывает, что австро-венгерскому посланнику Гизлю стало ясно, что «не следует ожидать безусловного принятия ультиматума. Приказ о сербской мобилизации действовал с трех часов дня. Городской гарнизон с большой помпой вышел из казарм и занял высоты вокруг города. Народный банк и Государственный архив приступили к эвакуации во внутренние районы, а дипломатический корпус приготовился последовать за правительством в Крагуевац (!) и далее в Ниш»[368]. Кларк повторяет аргументы германского посла в Вене Генриха фон Чиршки, которые он озвучил в разговоре с британским коллегой Бансеном. Когда тот сказал, что, по-видимому, Сербия согласилась практически со всеми пунктами ультиматума, Чиршки возразил, что все это обман, так как мобилизация уже началась, а правительство решило покинуть столицу еще до вручения ответа. И этот факт подтверждает то, что ему хорошо известно – что легитимные требования Австро-Венгрии остались неудовлетворенными»[369].
В вопросе о времени начала мобилизации ошибается и Жан-Жак Бекер, утверждающий, что приказ последовал 25 июля в 15.00, то есть за три часа до вручения ответа на ультиматум. Сербия, дескать, ни секунды не сомневалась, что он будет отвергнут[370].
Более того, в Вену сообщали, что мобилизация началась уже 24 июля в 16.00. Соответствующее донесение от австрийского шпиона в г. Шабац передано через командование XIII корпуса в Загребе и принято в 23.00 того же дня. Фиксируя эту информацию, Конрад Гетцендорф в своем дневнике делает запись о том, что 25 июля поступило новое известие о мобилизации, приказ о которой якобы отдан в 16.00. В данном случае, по-видимому, речь идет о докладе Гелинека, к которому апеллирует и Кларк[371]. И среди сербов ходили слухи, подкрепленные информацией из «секретного источника», что мобилизация или будет, или уже объявлена (а на самом деле еще не была. – М. Б.). При этом мало кто понимал разницу между приказом принять меры предосторожности, сообщением о готовности приступить к мобилизации и собственно приказом о мобилизации.
В том же духе пишут Грейдон Танстол и Макс Хэстингс. Первый указывает, что Вене стало известно о мобилизационных мерах 24 и 25 июля, а второй – что распоряжение последовало 25 июля в 14 часов[372].
Марк Корнуолл пытается разобраться, что побудило Гизля ошибочно уведомить Вену об отданном в 15.00 приказе, который Берхтольд расценил как «враждебный» шаг. Автор полагает, что посланника ввели в заблуждение различные манифестации и приготовления, перемещения войск и колонн резервистов. На самом деле, по словам Корнуолла, подписание состоялось вечером, а стало известно о нем поздно ночью[373].
Согласно сербской литературе и источникам, приказ о мобилизации подписан спустя два с половиной часа после уведомления австро-венгерского посланника о разрыве отношений, то есть 25 июля в 21.00. К самой мобилизации надлежало приступить 26 числа. В Австро-Венгрии 25 июля в 21.23 введен в действие приказ о мобилизации 8 корпусов, предусмотренных для реализации плана «Б». Приступить к выполнению надлежало 28 июля. Декрет подписал лично император Франц Иосиф[374]. Согласно Оперативному дневнику сербского Верховного командования, опубликованному Главным генеральным штабом в 1924 г., приказ о мобилизации последовал 25 вечером, как только австро-германский посланник отбыл из Белграда[375].
Сербское руководство, ознакомившись с ультиматумом, сразу поняло, какую цель преследует Австро-Венгрия. Тем не менее премьер Пашич отклонил предложение военного министра Душана Стефановича немедленно приступить к мобилизации: «Оценив по содержанию ультиматума, насколько серьезна ситуация, я в тот же день, не поставив в известность председателя правительства, передал командирам дивизионных областей, чтобы готовились к мобилизации, чтобы все офицеры, находившиеся в увольнении или на лечении, вернулись в расположение своих частей. Вызвал заместителя начальника генштаба полковника Душана Пешича и приказал ему, чтобы немедленно связались с воеводой Путником и полковником Живко Павловичем, которые находились на лечении за границей, и передали им, чтобы они немедленно возвращались в Отечество. Офицерам, осуществлявшим военный призыв в различных округах, было велено все бросить и вернуться в свои полки. Лично вызвал к себе командира Дунайской дивизии полковника Анджелковича и сказал ему, чтобы выводил в лагеря все части белградского гарнизона. 12 (25) июля утром отправился к г. Пашичу: “Что делать с армией, господин председатель, объявлять мобилизацию?”. Погрузившись в раздумье и поглаживая бороду, Пашич ответил: “Сейчас ничего не предпринимайте. Вечером все прояснится”. По возвращении в министерство я сразу приказал эвакуировать в Ниш белградскую военную мукомольню, после чего отдал поручение готовить следующие приказы: о переподчинении железных дорог армии, о минировании железнодорожного моста через Саву, о подготовке к печати сведений об австро-венгерской армии для последующего распространения в войсках»[376].
Выйдя от Гизля и присоединившись к министрам, которые ждали его в президиуме правительства, расположенном в доме Ристича, Пашич всем, кроме Стояна Протича, объявил, что надежды больше нет и дело решено. На затянувшемся до 19 часов и третьем по счету в тот день заседании кабинета было решено приступить к эвакуации правительства и созвать в Нише заседание скупщины[377]. Как следует из записок военного министра Стефановича, по возвращении в свое ведомство он вместе с полковником Крстой Смиляничем в 19.00 составил приказ о мобилизации[378]. Затем до 22.00 готовились распоряжения о формировании Верховного командования и его отправке в Крагуевац. Из военных документов следует, что в 21.00 отдан приказ о мобилизации, подлежащий исполнению на следующий день[379]. Об этом в 22.00 свое правительство немедленно проинформировал британский посланник Крекенторп[380]. Газеты опубликовали сообщение правительства и объявление мобилизации 26 или 27 июля 1914 г., как, например, «Политика».
Если дальше следовать логике Раухенштайнера и Кларка, согласно которой Сербия, зная заранее, что ее ответ будет отвергнут, начала мобилизацию до его вручения, тогда и австро-венгерское правительство, осознающее неприемлемость собственных требований, тоже заранее составило письмо, в котором отвергался сербский ответ. Посланник заранее, до получения ответа, погрузил свой багаж на корабль до Земуна, а австро-венгерский генштаб отдал приказ о мобилизации 25 июля в 21.23. Что самое любопытное, так это то, что правительство предоставило право принятия решения по столь важному вопросу одному человеку – генералу барону Владимиру Гизлю. В Вене не сочли нужным даже ознакомиться с ответом. Тем более не могло быть и речи о том, чтобы изучить документ и принять на его основе взвешенное решение. За начальство все это сделал посланник в Белграде.
Разумеется, ни один посол, какой бы крупной личностью он ни был, не мог бы принять столь значительное по своим последствиям решение, не располагая точными инструкциями. Обратимся к работе А. Митровича, чтобы познакомиться с тем, как германский посланник в Белграде фон Гризингер (v. Griesinger) описывал реакцию дипломатического корпуса на сербский ответ: «После спокойного и подробного рассмотрения сербского ответа мы с собравшимися у меня коллегами пришли к единому мнению, что барон Гизль отправился в путь с излишней поспешностью. Всем нам показалось, что Сербия сделала очень большой шаг навстречу требованиям, и срок, в течение которого наш коллега изучил врученный ему ответ, несоразмерно краток. Все мы сошлись во мнении, что каждому из нас потребовалось бы более продолжительное время. Поэтому мы пришли к выводу, что он заранее имел предписание отбыть, если ультиматум не будет, так сказать, безропотно проглочен. Тем временем сербский ответ был опубликован, и все мы утвердились в своем мнении [относительно отъезда Гизля]»[381].
Макс Хэстингс утверждает, что В. Гизль действительно 7 июля накануне возвращения в Белград получил от Берхтольда точное наставление: «Как бы сербы ни отреагировали на ультиматум [над которым именно в тот момент шла работа], вы должны разорвать отношения, дабы война могла начаться»[382].
Любопытно, что и Кристофер Кларк, о книге которого речь пойдет в следующей главе, признает, что ультиматум был сформулирован таким образом, чтобы его не смогли принять, а Гизль получил наказ отвергнуть любой сербский ответ безотносительно его содержания[383].
Действительно, имеется более чем достаточно первостепенных источников, свидетельствующих о том, что принятие окончательного решения о начале войны состоялось 15 июля. Главные действующие лица открыто обсуждали друг с другом меры «прикрытия» собственных истинных намерений. Для Германии не было тайной, что готовится неприемлемый ультиматум[384].
Тем не менее Иоахим Ремак высказывает спекулятивное предположение, будто Сербия, несмотря ни на какие австрийские планы начать войну, могла предотвратить ее, если бы полностью согласилась с требованиями ультиматума: «Если бы Белград не рассчитывал на создание Великой Сербии, он смог бы найти выход после предъявления австрийского ультиматума. Приняв его in toto, Пашич бы нарушил все австрийские планы»[385]. Как будто американскому историку неизвестно, что имелся вариант и на этот случай. Его разработал для Балльплатца советник и по совместительству профессор Венского университета Гольд фон Фернек: «Если Сербия примет все наши требования без возражений, мы могли бы отвергнуть ее ответ на том основании, что она не уложилась в срок, отведенный для подтверждения выполнения всех требований, которые следовало выполнить “сразу” и “со всей возможной поспешностью”, а также ввиду того, что она нас об этом, как, например, о роспуске «Народной одбраны», не “известила безотлагательно”»[386].
Обеспокоенные тем, что война может и не начаться, германцы интересовались у Берхтольда, что он собирается предпринять, если Сербия примет ультиматум. Министр успокаивал союзников, объясняя, что в этом случае «они [Монархия] смогут выбрать способ (!), как на практике будут выполняться их требования»[387].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глава 3 Военные партизаны Первой мировой войны
Глава 3 Военные партизаны Первой мировой войны 25 августа 1915 года командующий Юго-Западным фронтом генерал Николай Иудович Иванов приказал командирам 8, 9 и 11-й армий развернуть активную партизанскую войну в районе Полесья. Партизанские отряды должны были задержать
Накануне первой мировой войны
Накануне первой мировой войны Опыт применения мин в русско японской войне определил два основных направления в их совершенствовании. Прежде всего, требовалось обеспечить безопасность обращения с минами при постановке в случае повреждения гальваноноударных колпаков.
Июльский кризис и начало Первой мировой войны
Июльский кризис и начало Первой мировой войны 3 (16) июля 1914 г. русский посол в Австро-Венгрии известил МИД о том, что в ближайшее время правительство Дунайской монархии намеревается выступить в Белграде с особыми требованиями, связав вопрос о сараевском убийстве с
Июльский кризис и начало Первой мировой войны
Июльский кризис и начало Первой мировой войны 1 МОЭИ. Сер. III. 1914–1917. М., Л., 1931. Т. 4 (28 июня – 22 июля 1914 г.). С. 299.2 Воейков В. Н. С Царем и без Царя (Воспоминания последнего Дворцового Коменданта Государя Императора Николая II). Гельсингфорс, 1936. С. 83.3 Jannen W. Op. cit. P. 58.4 Grey of Fallodon Ed. Op. cit.
Часть IV. В годы Первой мировой войны
Часть IV. В годы Первой мировой войны
Модернизация в годы Первой мировой войны
Модернизация в годы Первой мировой войны В ходе первой мировой войны и вскоре после нее линкоры типа "Куин Элизабет" подверглись следующим модернизациям, кроме вышеупомянутых:На линкорах "Геркулес", "Колоссус", "Нептун" и в меньшей степени на кораблях типа "Орион" было
«Вклад» сербов в развязывание и продолжение полемики по вопросу о событиях, произошедших в Сараево в 1914 г
«Вклад» сербов в развязывание и продолжение полемики по вопросу о событиях, произошедших в Сараево в 1914 г Эрцгерцог Франц Фердинанд на маневрах в Боснии Эрцгерцог Франц Фердинанд на маневрах с генералами Конрадом и Потиореком Министр Люба Йованович-Патак вольно или
Борьба за пересмотр статьи № 231 Версальского договора об ответственности за развязывание войны
Борьба за пересмотр статьи № 231 Версальского договора об ответственности за развязывание войны Двадцать второго июня 1919 г. германская делегация на Мирной конференции выразила принципиальное согласие с текстом договора, за исключением 231-й статьи, определявшей
Короткоклинковое оружие Первой мировой войны
Короткоклинковое оружие Первой мировой войны 413. Эрзац-кинжал с клипсой на рукояти — «французский гвоздь»414. Австрийский укороченный штык к винтовке Маузера, 1889 г.415. Германский окопный штык М1916 к винтовке Маузера, «коммерческий» выпуск416. Германский окопный нож417.
Ошибки первой мировой войны
Ошибки первой мировой войны Ошибки первой мировой войны в области продовольственного снабжения заключались главным образом в различных упущениях. То, что сегодня, после 40 лет всяких тревог и недоразумений, принято как первая необходимость всеми зависящими от импорта
Пулеметное вооружение накануне Первой мировой войны
Пулеметное вооружение накануне Первой мировой войны Пулеметы успели доказать свое значение в ходе колониальных войн, а также англо-бурской, русско-японской, двух балканских войн. Русско-японская война отличалась интенсивным использованием пулеметов и ускорила их
Глава 1. Русские бронепоезда Первой мировой войны.
Глава 1. Русские бронепоезда Первой мировой войны. Начало XX века – это реализация оригинальных идей во всех областях техники, в том числе и в разработке новых систем вооружения. Одной из которых были железнодорожные артиллерийские системы. Их развитию способствовало