11
11
На допросе в контрразведке СМЕРШ Власов расскажет, как в декабре 1942 г. его куратор капитан вермахта Штрик-Штрикфельдт организовал ему встречу в отделе пропаганды с генерал-лейтенантом Понеделиным — бывшим командующим войсками 12-й армии.
«В беседе с Понеделиным на моё предложение принять участие в работе по созданию русской добровольческой армии последний наотрез отказался, заявив, что немцы только обещают сформировать русские части, а на самом деле им нужно только имя, которое они могли бы использовать в целях пропаганды, — говорил Андрей Андреевич следователю. — Тогда же я имел встречу с генерал-майором Снеговым — бывшим командиром 8-го стрелкового корпуса Красной Армии, который также не согласился принять участие в проводимой мной работе, мотивируя свой отказ боязнью за судьбу своих родственников, проживающих в Советском Союзе.
После этого Штрикфельдт возил меня в один из лагерей военнопленных, находившийся под Берлином, где я встретился с генерал-лейтенантом Лукиным — бывшим командующим 19-й армией, у которого после ранения была ампутирована нога и не действовала правая рука.
В присутствии немцев Лукин высказался враждебно по отношению к советскому правительству, однако после того, как я изложил ему цель своего приезда, он наедине со мной сказал, что немцам не верит, служить у них не будет, и моё предложение не принял.
Потерпев неудачу в беседах с Понеделиным, Снеговым и Лукиным, я больше ни к кому из военнопленных генералов Красной Армии не обращался»{186}.
Сам генерал-лейтенант Лукин об этой встрече поведает корреспонденту «Огонька» спустя два десятилетия: «В один из январских дней 1943 г. ко мне явился генерал-предатель Власов. Его сопровождал фашистский майор…
Власов был в длинном пальто, которое делало его ещё выше и сутулее, чем на заседании Военного совета Наркомата обороны в начале сорок первого, когда я видел его в последний раз. Он встретит меня стоя. Щёлкнул каблуками и приложил руку к полям фетровой шляпы на немецкий манер. Потом вытащил из кармана бумагу и театральным жестом протянул её мне: «Прошу вас прочитать, господин генерал!»
Не отвечая на его приветствие, я молча взял бумагу и стал читать. Это было так называемое «Воззвание к русскому народу»…
— Ну и что? — спросил я, кончив чтение.
— Прошу подписать эту бумагу! — торжественно провозгласил Власов. — Вам доверяется высокая честь — быть командующим РОА!
— Вот что, Власов, — сказал я громко, чтобы меня слышали в соседней комнате, в которой, как я знал, собирались мои товарищи по плену, генералы и старшие офицеры Советской армии. — Вот что, Власов… Меня теперь уже не интересует вопрос, каким способом ты получил партийный билет и для чего ты его носил. В моих глазах ты просто изменник и предатель, и та шайка отщепенцев, которую ты наберёшь под своё бесславное знамя, тоже будет не армией, а сборищем предателей… Ты мне скажи, Власов, как ты свой народ обманул?!
— Советы мне не доверяли! — пробормотал Власов, отводя от меня глаза. — Я был в загоне.
— Врёшь! До войны ты командовал девяносто девятой дивизией. Потом принял корпус. В сорок первом армию получил! Какое же тут недоверие? А если бы и не доверяли, разве это оправдывает измену Родине?
— Меня в Смоленске на улицах встречали!
— …в Смоленске выгоняли палками людей на улицу тебя встречать! Как ты мог в глаза смотреть этим женщинам и детям? Откажись, пока не поздно, от своего предательского дела!
— Вот видите, — сказал Власов, обращаясь к майору. — Видите, с какими трудностями мне приходится сталкиваться при формировании армии. А вы мне не верили! Я предлагал генералу Снегову, генералу Понеделину, генералу Карбышеву… Вот видите, теперь и Лукин отказывается!»{187}.
Чтобы понять, почему Власов щёлкал перед Лукиным каблуками и так приветствовал его, достаточно ознакомиться с биографией этого чрезвычайно мужественного и незаурядного человека.
Итак, Михаил Фёдорович родился в 1892 г. (был старше Власова на 9 лет).
В Первую мировую войну командовал ротой в звании поручика и был награждён тремя орденами. В Гражданскую войну: командир запасного батальона, помощник начальника штаба стрелковой дивизии, командир стрелкового полка и бригады 37-й стрелковой дивизии, начальник штаба 1-й кавалерийской дивизии, затем в 11-й Петроградской стрелковой дивизии — командир 94-го стрелкового полка, затем 33-й стрелковой бригады.
Был ранен, контужен и за отличия в боях награждён двумя орденами Красного Знамени.
В межвоенный период Лукин был начальником 92-х пехотных курсов, помощником командира 23-й стрелковой дивизии, начальником штаба 7-й стрелковой дивизии, начальником строевого отдела штаба УВО, начальником 1-го отдела в Главном управлении РККА, командиром 23-й стрелковой дивизии.
С 1935 г. он — комендант Москвы, с 1937 г. — заместитель начальника, затем начальник штаба, а с декабря 1939 г. заместитель командующего войсками СибВО. С июня 1940 г. — командующий 16-й армией СибВО.
Военное образование Михаил Фёдорович получил следующее:
1916 г. — 5-я Московская школа прапорщиков;
1918 г. — курсы разведчиков при Полевом управлении Штаба РККА;
1925 г. — КУВНАС при Военной академии им. М.В. Фрунзе;
1931 г. — КУВНАС при Военной академии им. М.В. Фрунзе.
С начала войны генерал-лейтенант (1940 г.) Лукин продолжал командовать 16-й армией в составе резерва Ставки (с середины июля — Западного фронта).
В течение второй половины июля соединения его армии вели тяжёлые бои на подступах и на окраине Смоленска.
2 августа войскам армии удалось прорвать кольцо окружения, выйти к Днепру, переправиться на левый берег и соединиться с основными силами фронта.
8 августа в ходе Смоленского сражения М.Ф. Лукин был назначен командующим 20-й армией этого же фронта, а с 10 сентября — командующим 19-й армией Западного фронта. 14 октября, при выходе из окружения генерал Лукин был тяжело ранен и попал в плен{188}.
Такую личность, как Михаил Фёдорович Лукин противопоставлять Власову было бы, по меньшей мере, неэтичным, однако мне это придётся сделать ради одного: понимания истинного отношения русских людей к измене. В немецком плену, безусловно, все вели себя по-разному. Но генерал Лукин был одним из редких и исключительных примеров стойкости и мужества в неволе. Передо мной его письмо из плена сестре А.Ф. Лукиной, написанное им 10 июня 1943 г. Его невозможно читать без содрогания, но оно того стоит…
«Дорогая Шурочка!
Письмо твоё с оказией получил 4 июня, посланное тобой по почте я не получил. Ты, конечно, представляешь, сколько радости мне доставило твоё письмо; читая его, слёзы радости и умиления лились ручьём; ведь мало, что оно от тебя, оно из родных краёв! Письмо я выучил наизусть. Я очень рад, что ты и твоё семейство Живы…
Очень и очень жаль, что тебе не удалось получить ответа от моей мамуси. Где она теперь и как живёт с моей дочуркой и старушкой Маней. 13 июня исполнится 2 года, как я покинул их. Ведь Юлечке в ноябре исполнится 16 лет — оставил её девочкой, а теперь взрослая девушка. Мысль о них причиняет мне острую боль, относительно их жизни строю всевозможные картины, одна другой ужаснее и больше всего страшусь мысли, как бы они не попали туда, где большая Шура, или в другое подобное место. От одной этой мысли сердце останавливается, кровь леденеет и разум мутится. Ведь, кроме Родины и моего народа, это самые близкие и родные мне существа. Дорого бы я заплатил, чтобы знать, что они живы и здоровы и вспоминают своего несчастного калеку папусю. Немцы написали в газетах, что ген.-лейт. Лукин, командующий 19 ар., взят в плен, но не написали, в каком состоянии. Обрадовались, что взяли мой труп! А раз в газетах написали, значит, знают и наши, и это может послужить основанием для репрессии моей семьи. Родная Шурочка, я ведь чист перед своей Родиной и своим народом, я дрался до последней возможности и в плен не сдался, а меня взяли еле живого. Моя мамуся не поверит, чтобы я, цел и невредим, мог сдаться в плен врагу, как это сделали многие генералы, она знает, как я честен в этом. Шурочка, ты знаешь, какой патриоткой оказалась моя мамуся. Я искренне ей горжусь. Выходя из первого Смоленского окружения, 2 августа 41 г. при переправе через р. Днепр, я получил перелом кости в ступне левой ноги и целых 7 недель не мог встать на ногу. Мне никто не предложил эвакуироваться, хотя Тимошенко и Булганин были у меня и видели, в каком состоянии я нахожусь. Самому просить было как-то стыдно, и поле боя я не оставил, хотя и имел все основания на поездку в тыл.
Написал мамусе, и вот её ответ: «Родной мой папочка, если есть возможность остаться на фронте, как бы мне ни хотелось тебя видеть, оставайся. Я знаю, как нужны такие командиры, как ты; с презрением смотрю на людей, которые из личного благополучия устраиваются в тылу». Вот какая моя мамуся! А как она была рада, как она гордилась мною, когда узнала, что я один из первых командующих армией был награждён орденом (это 4-м по счёту). Моя армия не была разбита, пр-к нигде не прорвал фронта моей армии. Моя армия была окружена под Вязьмой по вине моих соседей и, больше всего, по вине моего старшего н-ка, который неправильно меня информировал о положении на фронте и вовремя не дал мне приказа отступить. У меня не осталось ни одного снаряда, не было горючего в машинах, с одними пулемётами и винтовками пытались прорваться. Я и к-ры моего штаба всё время находились в цепи вместе с красноармейцами. Я с группой мог уйти, как это удалось сделать некоторым частям моей армии, но я не мог бросить на произвол, без командования большую часть армии. Мне были дороги интересы общего дела и моей армии, а не личная жизнь. Когда прорваться не удалось, я, взорвав всю артиллерию и уничтожив все машины, решил выходить из окружения небольшими группами.
Родная Шурочка, каждый взрыв орудия и пламя горящих машин больно отзывались в моём сердце! Но я был горд сознанием, что ничего в целости врагу не оставлю. Блуждая по лесам, в поисках выхода, 12 октября я был ранен в правую руку пулей. Рана пустяшная, на первый взгляд, кость не задета, но перебиты два нерва. Окружающие меня к(оманди)ры штаба в панике разбежались, оставив меня, истекающего кровью одного. Бинта при нас не оказалось. Кровь лилась ручьём, остановить её не могу, а шагах в 200 приближаются немцы. Первая мысль — бежать. Встал, сделал несколько шагов — упал из-за слабости (много потерял крови, от большой ходьбы левая нога болеть начала, ещё не зажила как следует, несколько суток подряд не спал совершенно и в последние дни ничего не ел). Мелькает мысль: плен, но от неё прихожу в ужас. С быстротой молнии работает мозг. Перед глазами вереницей проходят мои родные и дорогие: мамуся, старушка мать, которую я много раз как сын обижал, дочурка Юлечка и все, все. Тяжело. В глазах муть. Хочется пить и уснуть. Боль ноющая, глухая. Стрельба, всё усиливаясь, приближается. Совсем почти рядом рвутся снаряды, над головой беспрерывно свищут пули. Стараясь преодолеть слабость, боюсь, как бы не заснуть. Мозг продолжает усиленно работать. Пытаюсь достать левой рукой револьвер из кобуры, думаю, живой не сдамся, последнюю пулю себе. Все попытки вынуть револьвер не удаются. Правая рука повисла, как плеть. Вдруг из кустов подошли две девушки санитарки, но у них не оказалось бинтов — все израсходовали. Наскоро сняли шинель, разрезали рукав кителя, оторвали от моей рубашки тряпку и перевязали. Взяли меня под руки и повели. Надо было уходить, немцы приближались. Сделал шагов 20–30, идти не могу. Положили меня на походную палатку и волоком потащили по земле. Спустились в овраг с кустарником, из ручейка напоили меня водой. Напившись, почувствовал прилив сил, пошли. Не прошли и 5 шагов, как я снова был ранен осколками снаряда: в правую ногу, выше колена, и в икру. Я упал. К счастью, девушки остались невредимыми. Дальше идти не могу, прошу их достать мне револьвер, чтобы покончить расчёты с жизнью, но, оказалось, что мы револьвер оставили в суматохе на том месте, где они меня перевязывали. Немцы опять близко, в кустах слышна их гортанная речь. Прошу, умоляю, приказываю им оставить меня, а самим спасаться. Но милые, родные русские девушки, совсем ещё девочки, и слышать не хотели, даже обиделись: «За кого вы нас считаете!» Не бросили они своего истекающего кровью генерала, не уподобились горе-шкурникам, командирам моего штаба, а с нечеловеческими усилиями понесли меня. Подошёл ген. Андреев. Встретился со своими, у которых оказались продукты, поел. Часа три уснул. Снова стрельба, и снова уходили. Бродили ещё 2 суток. Ходить дальше нет сил. Чувствую, что становлюсь обузой окружающим. Мысль о самоубийстве не покидает меня, думаю, рано или поздно придётся это сделать. На сердце тяжело. В одном небольшом лесу встретили нач(альник). О(собого). О(тдела) 24 армии Можина (мамуся его знает по Новосибирску), он тяжело ранен, ходить не может, лежал в землянке уже дней 5, сказал, что он послал верного человека через фронт к своим, чтобы прислали за ним самолёт, уговаривает и меня остаться с ним. Мелькнул луч надежды на спасение. Поели. Начали засыпать. Снова стрельба. 3 генерала, которые были со мной, выбежали посмотреть. Прошло минут 5 — не возвращаются, а стрельба уже совсем близко. Я решил уходить. Только я вышел из землянки с большим трудом, как шагах в 50 показались немцы. Выстрел, и я снова ранен в колено и опять в правую ногу разрывной пулей. Упал. Мой сапог быстро наполнился кровью. Чувствую, начинаю терять сознание. Силы оставляют меня. Прошу находившихся кр-цев пристрелить меня, пока не подошли немцы, говорю им, что я всё равно больше не жилец, и что этим они избавят меня от позора быть в плену. Никто не решился. Проходят не минуты, а какие-нибудь секунды, и за эти секунды успел просмотреть почти всю прошлую жизнь. Мамусю, маму, Юлечку, Маню видел в этот момент, как живых, склонившихся надо мной. И стало так мне легко на сердце, боли не чувствую. Помню ещё, как подошли немцы и начали шарить по карманам. Потерял сознание. Пришёл в себя на вторые сутки. Не понимаю, где нахожусь. Боли нет, ещё действовал наркоз. Входит врач, открывает одеяло. Вижу, нет правой ноги. Всё стало ясно: я в плену в немецком лазарете. Мозг начинает работать лихорадочно: плен, нет ноги, правая рука перебита, моя армия погибла. Позор! Сильные душевные муки. Жить не хочется. Наконец появляются физические боли, ужасные боли. Температура свыше сорока. Не сплю несколько суток. Наяву галлюцинирую. Переезд в г. Вязьму, из Вязьмы в Смоленск на грузовой 5-тонной машине 200 км, дорога ужасная. В машине не только трясёт, а подбрасывает. Боли нестерпимые. Хочу одного: или потерять сознание, или умереть, лишь бы не чувствовать боли. 3 ноября, я в Смоленске, в русском госпитале для пленных. Мороз 30 градусов. Госпиталь не отапливается, оборудован примитивно, переполнен до отказа, больные валяются кучами везде, даже все коридоры заняты, а раненые всё прибывают тысячами, медикаментов острый недостаток, уход очень плохой, хотя медперсонал весь русский из военплен., питаемся супом из неочищенной картошки без мяса и жиров и варёной рожью, смертность доходит до 150 чел. в день. Боли ужасные, хочется кушать. Забыл, когда спал, снотворных, медикаментов нет. Отношение кр-цев и некоторых командиров явно враждебное к «старшим начальникам». Говорят, продали их. Политработников и евреев выдают немцам, а с ними расправа короткая. Обидно! К физической боли присоединяется нравственная боль, а эта в тысячу раз хуже физической. Приходит комиссия международ. Кр. Креста, шведы и швейцарцы, осталась довольна. На наш вопрос, почему так плохо обращаются с ранеными, отвечают: «Ваше правительство отказалось подписать конвенцию о пленных, немцы делают всё, что в их силах и возможностях, вас — очень много». Спасибо и на этом.
3 декабря. Положение моё почти безнадёжное. Жду смерти, а умирать назло теперь не хочется, хочу жить, правда, жалею, что не был убит на поле боя, а теперь хочу жить. Приходят немецкие врачи и переводят меня в немецкий госпиталь. В комнате нас два генерала. Чистая постель, тепло, кормят хорошо, хорошо это — по-немецки, а по-нашему — сносно, хорошо как для пленного уход и лечение. К нам никого не допускают, тайком приходят немецкие раненые солдаты, приносят сигареты, конфеты. Сестра сварливая ведьма даже для своих раненых, а ухаживает хорошо. Рана начинает заживать. Наши часто бомбят Смоленск.
3 февраля 42 г. переезд в Германию. Мороз 30–40 градусов. Товарные вагоны. Лагерь для пленных, госпиталь русский. Хлеб из бураков с примесью древесных опилок и какой-то части муки, брюква, макароны, овсянка, нечищеная картошка, дают немного маргарина и две ложки сахару в неделю. Жить можно, чтобы не умереть. Большинство больных опухшие и до последней степени истощённые, настоящие скелеты. Тиф. Смертность ужасающая. Рядом с нами лазарет и лагерь: отделённые от русских проволокой английские, французские и сербские. Там другой мир. Их кормят несравненно лучше, обращаются с ними хорошо. Их правительства и междун. Кр. Крест присылают им посылки: всевозможные консервы, бисквиты, какао, кофе, шоколад, табак, обмундирование, и получают из дома, и пишут родным письма. Большинство из них никогда дома так не кушали, как едят в плену. Никто из них от голода и побоев не умер. Все они ненавидят и ругают немцев, ждут, чтобы русские пришли и их освободили, но у себя советской власти не хотят. Сами не воевали как следует и не воюют теперь, а хотят, чтобы русские за них кровь проливали. Сволочи! Ненавижу их, в особенности англичан и французов! Сербы не прочь иметь у себя и советскую власть.
22 апр. 42 г. французский врач делал операцию руки (русск. врач отказался — неопытный, выпуска 40 г.). Прошло 14 месяц, со времени операции, а рука в таком же положении, как и была после ранения. Я ею не могу писать, ни ложку взять, папиросу держать не могу, застегнуться тоже не могу. Значит, операция прошла неудачно. Немцы лечить не хотят. После полутора лет беспрерывного лежания начал ходить на костылях. Очень неудобно: нет правой ноги и не работает правая рука. Метров 500 могу пройти и то ощущаю огромную радость: я хожу! Рана на ноге зажила, были осложнения: выходили осколки от снаряда, осталось два маленьких осколка. С 4 июня я в лагере пленных. Волосы на голове большую часть седые. (Я с конца 39 г. ношу причёску, ты меня с ней не видала.) Уже 5 мес. как ношу усы, говорят, очень приличные, буденновские. Бороду не отпускаю, вся седая. Вот и всё про свою жизнь, конспективно, конечно…»{189}.
Мало кто сегодня знает о том, что генерал Лукин чудом избежал ареста в период репрессий. Как уже упоминалось выше, с 1935 по 1937-й он был комендантом Москвы. Его лично знали Сталин и Ворошилов. А в 1937 г. «за притупление классовой бдительности и личную связь с врагами народа» Михаил Фёдорович получил по партийной линии строгий выговор с занесением в учётную карточку, был снят с должности военного коменданта столицы и отправлен заместителем начальника штаба СибВо. «И вдруг в 1938 г. его по доносу Мехлиса вызывают в Москву, в Комиссию партийного контроля. И бывает же так в жизни — Лукин случайно в коридоре ЦК встретил Ворошилова и рассказал ему о том, в какую передрягу попал. И Ворошилов прямо при Лукине позвонил одному из руководителей КПК: «Товарищ Ярославский, я знаю Лукина давно, с Гражданской войны. Это честный коммунист, и то, что вокруг него происходит, это — недоразумение. Прошу вас внимательно разобраться, и если он не виноват, написать об этом в округ». Лукин позднее рассказал своей дочери: «Положив трубку, Климент Ефремович долго расспрашивал меня о положении в округе, потом вдруг сказал: «У меня уже третий раз просят санкции на ваш арест». А тогда Ярославский прислал письмо в Новосибирск, будущий командарм Великой Отечественной войны был спасён…» — пишет О. Сувениров{190}. Тогда его Бог, что называется, миловал.
В апреле 1945 г. генерал Лукин был освобождён из плена американскими войсками и до 25 мая находился в Париже, а с мая по декабрь 1945 г. проходил проверку в органах «Смерш» в Москве.
В ходе проверки по делу Лукина было установлено следующее:
«…Показал, что в октябре 1941 г. в районе Вязьмы при попытке выхода из окружения был тяжело ранен и захвачен немцами в плен.
Показаниями арестованных Главным управлением СМЕРШ одного из руководителей НТСНП белоэмигранта Брунста, изменника Родины Власова и бывшего начальника курсов мл(адших) лейтенантов 33-й армии Минаева устанавливается, что Лукин, пребывая осенью 1942 г. в лагерях военнопленных в городах Цитенхорст и Выстрау, проявлял антисоветские настроения по вопросам коллективизации сельского хозяйства, карательной политики Советской власти и клеветал на руководителей ВКП(б) и Советского правительства.
Лукин, будучи допрошен по этому вопросу, отрицает преступную связь с этими лицами и проводимую им антисоветскую деятельность.
В результате ранения у Лукина парализована рука и ампутирована нога».
Как утверждают Л.Е. Решин и B.C. Степанов, «речь шла о том, что, находясь в бараке в обществе друзей по несчастью, Михаил Фёдорович искал объяснение причин поражения советских войск в начальный и последующие периоды войны.
В сотнях томов следственных дел, заведённых на советских генералов и офицеров — действительных и мнимых предателей, — не содержится и намёка на сотрудничество генерала Лукина с гитлеровцами или их пособниками. Он был верен своему солдатскому долгу, несмотря на негативные высказывания о колхозах или о репрессиях. Об этом говорили на допросах все, от офицера-патриота до предателя Власова…»{191}.
После проверки генерал Лукин был возвращён на действительную военную службу в Красную Армию и зачислен в распоряжение ГУК НКО, а в ноябре 1946 г. уволен в запас.
За страдания плена, за преданность своему Отечеству Бог подарит ему ещё целых 24 г. жизни. 25 мая 1970 г. Михаил Фёдорович скончался в Москве, прожив более 77 лет.
А 1 октября 1993 г. ему вполне заслуженно присвоят звание Героя Российской Федерации{192}.
Только такой русский человек и генерал, будучи инвалидом, мог написать из неволи, в сущности, простые и одновременно великие слова: «Вот только здесь, на чужбине, в неволе, начинаешь по настоящему чувствовать, что такое Родина. Какой она кажется милой, родной, что лучше её нет ни одного уголка на всём земном шаре. А эта родина и мой народ переживают ужасную трагедию. Как хочется вступить ногой на родную землю, растянуться на ней и целовать каждый её вершок. Как хочется, чтобы мой народ не переживал ужасов войны и зажил спокойно. Ни на один момент не поколебалась вера в конечную нашу победу, наш великий народ не может погибнуть; взойдёт заря пленительного счастья и для него. За свою Родину, за мой народ я, калека, готов отдать каплю за каплей свою кровь вновь, а если нужно, то и саму жизнь! Родина и свой народ — это пока всё!»{193}.
Не потому ли, размышляя о предательстве генерала Власова, И. Эренбург после войны напишет: «Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на всё, решительно на всё. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове…
Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всесущ — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребёнка, но и старого человека, казалось бы, давно потерявшего дар удивления»{194}.
А теперь скажите, разве мог Власов стать «агентом влияния» или полководцем?
Нет! Он только и мог стать предателем, оставаясь посредственностью в роли свадебного генерала, каким всегда и являлся. Другого предназначения у него никогда не было.
К сожалению, сегодня его именем продолжают будоражить умы, вновь и вновь расшатывая извечные общечеловеческие законы, по которым предатель, изменник всегда и во все времена будет оставаться таковым. Для чего это делается, лично мне понятно. Но ложь — это не история. На ней мы снова можем «заехать не в ту степь», как это было уже не однажды. Ибо бесконечное сотрясание воздуха иногда приводило к потрясениям России… Врагов у неё сегодня, как всегда, в избытке и особенно среди тех, кто её никогда не защищал!
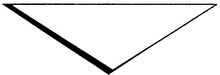
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК