Раздел III: Афганистан не задолго до…
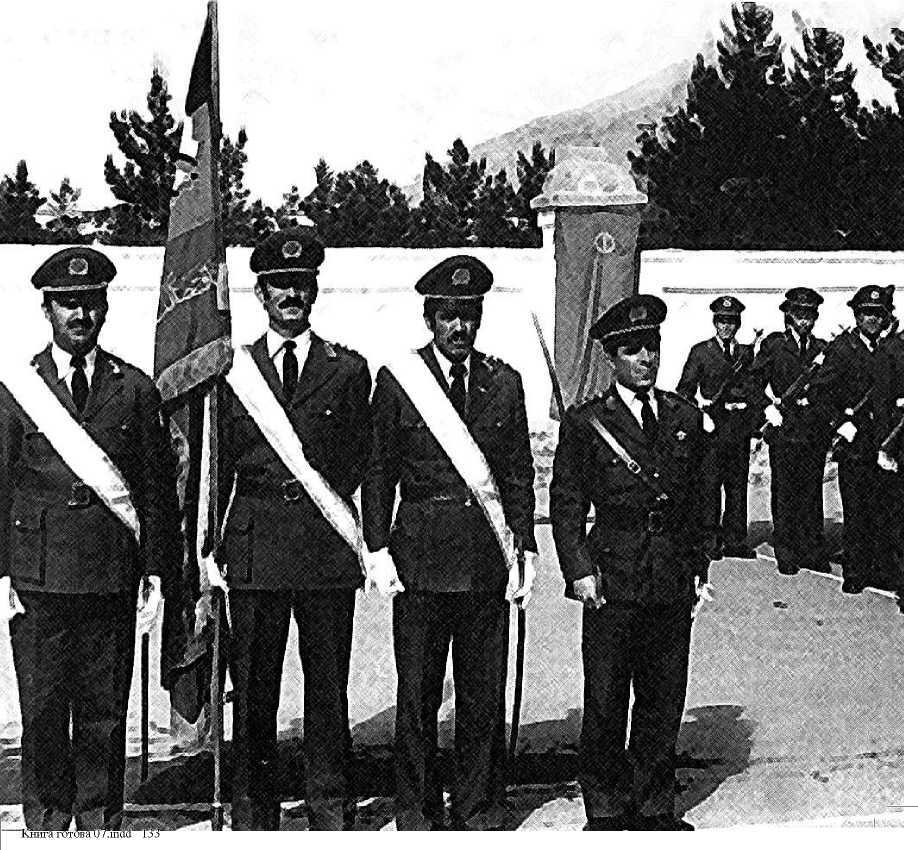
Афган во мне
И проступившей на погонах солью,
И криком, искривившим рот.
Афган во мне живёт вчерашней болью
И болью нынешней живёт.
Моё сомненье он и отреченье,
Тревожный невозможный сон,
Пророчество, прозренье, очищенье,
Последний крик, предсмертный стон.
Афган во мне — бой с рассечённой бровью,
Без права на победу бой.
Он для меня распятою любовью,
Грехом, забвеньем, слепотой.
Афган во мне четвёртым измереньем
Поступков, жизней, бытия.
Афган во мне наивным поколеньем —
Мой прокурор и мой судья.
Он для меня — прицелов перекрестье,
В чужой стране чужой раздор.
Афган во мне — беда, а не бесчестье,
Не слава мне, не мой позор.
И, на кладбищенской уснув постели,
Мне быть под этим же крестом:
Афган во мне, в душе моей и теле, —
Осколком, горечью, стихом.
Одесса — Феодосия — Москва,
1988-1990 годы
История советско-афганских межгосударственных отношений восходит к 1919 году. Тогда к власти в Афганистане пришёл Аманнулла-хан, который сменил на престоле своего отца Хабиббулу-хана, убитого под Джелалабадом. Первым серьёзным шагом молодого монарха стало провозглашение 28 февраля 1919 года во время его коронации независимости Афганистана. Советская Россия стала первым государством, признавшим самостоятельность своего южного соседа (27 марта 1919 года) и установившим дипломатические отношения с Афганистаном. Вслед за этим молодой советской республикой, которая сама испытывала серьёзные трудности, правительству Амануллы-хана была оказана безвозмездная помощь в виде передачи миллиона рублей золотом, пяти тысяч винтовок и нескольких самолётов.
Так начиналась история советско-афганских отношений, которой предшествовали разведывательные миссии и военно-дипломатические контакты агентов российской империи с лидерами этого многострадального края, входившего в ту пору в зону активного влияния британской империи.
1. В начале советско-афганских отношений
Великобритания, которая неоднократно пыталась завладеть Афганистаном с целью присоединения его к своей колониальной Индии, в ответ на провозглашение независимости начала сосредотачивать крупные войсковые формирования на границе сопредельного государства. Май 1919 года стал временем начала третьей англо-афганской войны (первая и вторая войны проходили в 1838–1842 и 1879–1880 гг соответственно. — Примеч. В.К.).
Несмотря на значительный численный перевес в военной силе, авиационные бомбёжки Кабула и Джелалабада, а также определённые успехи на первом этапе кампании, Англия была вынуждена пойти на заключение перемирия с правительством Амануллы-хана. Оно было подписано 3 июня 1919 года. Причиной этого стало как объединение афганских племён вокруг идеи государственной независимости и своего молодого монарха, так и внутренние проблемы самой Великобритании (рост национально-освободительного движения в Индии, падение авторитета британской империи и другое). 8 августа 1919 года по Равалпиндскому мирному договору Англия признала независимость Афганистана.
Следствием добрососедского развития советско-афганских отношений стало подписание 28 ноября 1921 года договора о дружбе между советской Россией и Афганистаном.
Информация к размышлению
Из книги «Авганистан»…
генерал-лейтенанта Андрея Евгеньевича Снесарева (1865–1937 гг.)
«_Что же касается военной стороны дела, то беспутье страны делает её почти недоступной, во многих местах непроходимой, лишает возможности для наступающего держать связь между отдельными отрядами и вообще делает страну весьма пригодной для пассивного сопротивления. Гордый и свободолюбивый характер народа и огромная горная площадь вполне гармонируют с этим бездорожьем, делая страну очень трудной для завоевания, а особенно — для удержания во власти.
_Эту точку зрения — рассмотрение путей в Афганистане только как сети направленной на Индию, и я считаю единственно разумной и справедливой, потому что трудно себе представить, что когда-либо имело смысл предпринимать военную кампанию в Средней Азии только во имя одного Афганистана.
Афганистан — страна небогатая. Завоевание его вызовет… ненависть гордого и свободолюбивого народа, удержать страну во власти трудно, почему и думать о том, что в будущем может назреть война только из-за Афганистана, нет смысла.
_Таким образом, северный фас горного массива, открытый в сторону России, обеспечен до некоторой степени сначала Аму-Дарьёй, затем линией степных городов и группой старых фортов в предгорьях и, наконец, тем, что, может быть, [64] имеется на самих перевалах. Если к этим трём линиям обороны успеют подойти англичане с их техникой и деньгами, то наше продвижение к Гиндукушу встретит огромные препятствия. Это нужно учитывать определённым образом.
…Афганская армия заключает в себе мало элементов, которые могут заменить нашу европейскую дисциплину. Прежде всего Афганская армия — это дружная семья магометан, которая готова, как один, постоять за знамя пророка, и это знамя будет поднято при всякой войне. Затем, афганцы проникнуты фанатической любовью к своей родине и к свободе, и это основная черта народа прочно объединит их в минуты войны. Наконец, и железная дисциплина будет не забыта, когда настанет война.
…Огульно думать, что афганцы, здорово живёшь, бросятся к нам в объятья или сделают такой же бросок на британскую грудь, неправильно и неосторожно. Политические расчёты могут повести (всегда временно) Афганистан на ту или на другую сторону, но чувства останутся одинаково враждебными ко всякому Европейскому государству. Чёрная ли собака, говорил Абдурахман, рыжая ли собака, всё равно собака; эмир разумел русских и англичан»[64].
В связи с приведёнными выдержками из книги генерала Андрея Евгеньевича Снесарева обратим ваше внимание на то обстоятельство, что вышла она в свет в 1921 году, то есть в год подписания советско-афганского договора о дружбе. А выпустило её тиражом в три тысячи экземпляров Московское государственное издательство. В свою очередь сама книга «Афганистан» представляет собой сборник лекций А.Е. Снесарева, прочитанных им примерно в это же время старшему и высшему командному составу РККА. Поэтому у нас есть определённые основания полагать, что взгляды, изложенные в данной книге историком, учёным-востокове-дом и русским генералом А.Е. Снесаревым, если не представляли собой официальную точку зрения советского руководства того времени на Афганистан, то, по крайней мере, ей не противоречили. [65]
Информация к размышлению
Из личного дела
генерал-лейтенанта русской императорской армии, Героя Труда Советского Союза Снесарева Андрея Евгеньевича
Родился в 1865 году в семье православного священника. В 1888 году окончил математический факультет Московского императорского университета, а в 1890 году — Московское пехотное училище. Проходил службу в Туркестане, где занимался вопросами изучения и военно-географического описания Средней Азии. Изучил и свободно владел четырнадцатью языками. Предпринял путешествия разведывательного характера по Афганистану, Индии, Кашгарии и Тибету. В 1899 году окончил Академию Генерального штаба. В последующем преподавал военную географию в военно-учебных заведениях. Был избран действительным членом Русского географического общества, являлся членом Общества ревнителей военных знаний и председателем среднеазиатского отделения Общества востоковедения.
С 1910 года — начальник штаба казачьей дивизии. В Первую мировую войну командовал полком, бригадой, дивизией, а в последующем (1917 г.) стал выборным командиром 9-го армейского корпуса. В 1917 году ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». С мая 1918 года он в РККА, где был назначен военным руководителем (командующим) Северо-Кавказского военного округа. В июне 1918 года А.Е. Снесарев успешно руководил обороной Царицына, однако был незаконно отстранён от командования и арестован по приказу политического представителя ЦК ВКП (б) И.В. Сталина.
В последующем этот несправедливый приказ был отменён инспекцией РВСР, прибывшей из Москвы и расследовавшей данное дело. Несколько позднее А.Е. Снесарев командовал Белорусско-Литовской армией, был начальником Академии Генштаба (1919–1920 гг.), ректором и профессором Института Востоковедения (1921–1930 гг.), профессором Военно-авиационной академии (с 1924 г.) и Военно-политической академии (с 1926 г.). В 1929 году он был удостоен звания Героя Труда. В 1930 году был арестован и осуждён по ложному обвинению. До 1934 года находился в заключении и ссылке. Умер А.Е. Снесарев в Москве 4 декабря 1937 года. Посмертная реабилитация состоялась в 1958 году.
Афганскому эмиру, или, иными словами, королю Ама-нулле-хану история отвела десять лет пребывания на троне. Придерживаясь реформаторских взглядов, молодой правитель постоянно забегал вперёд, хотел одним рывком вывести свою страну из темноты феодально-племенных отношений, отсталости и нищеты. Идя путём буржуазно-демократических реформ, Аманулла-хан стремился укрепить централизованное афганское государство, развивать национальную экономику и народное просвещение, способствовал эмансипации женщин и ограничению влияния духовенства.
В годы его правления была принята первая конституция Афганистана, введён трёхцветный национальный флаг (чёрно-красно-зелёный. — Примеч. В.К.). Афганская молодёжь получила возможность обучаться в Европе и Турции для того, чтобы в дальнейшем использовать приобретённые знания на благо своей родины. В этот период динамично развивались и советско-афганские межгосударственные отношения. Закономерным этапом этого стало подписание 31 августа 1926 года договора «О нейтралитете и взаимном ненападении» между СССР и Афганистаном.
Однако реформы, проводимые Амануллой-ханом, устраивали далеко не всех в патриархальном афганском обществе. Постепенно в стране нарастали антиправительственные настроения. Свою существенную роль в этом сыграли «оскорблённое» мусульманское духовенство и происки англичан, которые всегда умели «уходя оставаться» и никогда никому ничего не прощали.
В конечном итоге этим силам удалось воспользоваться длительным отсутствием в стране монарха, совершавшего с декабря 1927 года по июнь 1928 года свою заграничную поездку, и поднять антиправительственное восстание. Это заставило 14 января 1929 года короля-реформатора отречься от престола в пользу своего младшего брата принца Инаятуллы-хана, пробывшего афганским эмиром всего трое суток. После захвата восставшими под руководством Бачаи Сакао или Бача Саккау (в дословном переводе «сын водоноса». — Примеч. В.К.) Кабула Инаятулла-хан, забрав казну и семью, бежал в Пешавар.
В последующем он при помощи англичан перебрался в Кандагар к своему старшему брату. После чего было аннулировано отречение от монаршего престола Амануллы-хана, который вновь попытался вернуть себе верховную власть в Афганистане.
2. Первый советский «спецназ» в Афганистане
В те годы в советской Средней Азии проходила ожесточённая и бескомпромиссная борьба новой власти с местным басмачеством. Очевидно, что в подобных условиях высшее руководство СССР было в особой мере заинтересовано в сохранении и упрочении добрых отношений с правительством соседнего Афганистана. Обеспокоенность советского правительства в то время провоцировала и активная экспансионистская политика Великобритании в этом регионе, которая к тому же стремилась поддержать остатки белогвардейского движения и местное басмачество, точнее сказать, использовать их в своих целях.
В этой связи монархическое правление проверенного временем афганского эмира Амануллы-хана вполне устраивало коммунистических вождей Советского Союза. Должно быть, в Кремле чётко осознавали, что афганская междоусобица 1928–1929 года в значительной мере была организована теми внутренними и внешними силами, которые в случае прихода к власти в стране вряд ли займут просоветские или хотя бы нейтральные позиции в отношении СССР И тогда советское руководство принимает решение…
Здесь мы несколько отступим от нашего повествования и осмелимся предположить, что при аналогичных внешнеполитических обстоятельствах подобное решение, вполне возможно, приняло бы и царское правительство российской империи, неоднократно посылавшее прежде в Среднюю Азию свои экспедиционные корпуса под командованием «белого» генерала М.Д. Скобелева и других военачальников. Скорее всего, в данном случае не остались бы в стороне и власти США, которые на протяжении всей своей истории «усмиряли» не только североамериканских индейцев, но и своих соседей (Мексику, Панаму, Кубу, Никарагуа), вмешивавшиеся во внутренние дела государств, находящихся на значительном удалении от собственных берегов (Корея, Вьетнам, Ирак и т. д.). Да и правительства большинства других, так называемых, цивилизованных стран, так кичащихся многолетней историей развития в них демократических свобод.
О чём всё-таки идёт речь? А говорим мы о том, что, решив поддержать дружественный режим короля Аманул-лы-хана, советское руководство отправило на территорию Афганистана специальный вооружённый отряд. Эта советская воинская часть фактически являлась разведывательно-диверсионным формированием, предназначенным для выполнения соответствующего рода боевых (специальных) задач на территории сопредельного государства.
В своих рядах она насчитывало порядка тысячи бойцов, переодетых в афганскую военную форму. На вооружении отряда имелось 4 горных орудия, 12 станковых и 12 ручных пулемётов, а также мощная для того времени радиостанция, обеспечивающая устойчивую связь командования этого воинского формирования с его руководством на территории Советского Союза.
Формально возглавлял эту секретную миссию прибывший накануне из Москвы афганский генерал Гулам Наби-хан Чархи, который являлся послом Афганистана в СССР и представлял, таким образом, интересы законного правителя Амануллы-хана. В качестве начальника штаба отряда выступал афганский офицер Гулам Хайдар, вместе с ним находились ещё несколько афганских кадровых военных. Однако реально командовал действиями этого воинского формирования бывший военный атташе Советского Союза в Афганистане В.М. Примаков, выступавший в данном случае под видом турецкого офицера Рагиб-бея.
Информация к размышлению
Из личного дела
комкора Примакова Виталия Марковича (1897–1937 гг.)
Член РСДРП с 1914 года. Участник Великой Октябрьской социалистической революции (государственного переворота) 1917 года в Петрограде. Советский военачальник. В годы гражданской войны был атаманом Червонного казачества Украины, последовательно занимая должности командиров бригады, дивизии и конного корпуса. С 1927 года по 1929 годы — военный атташе Советского Союза в Афганистане. В 1929 году возглавил миссию советского отряда специального назначения по реставрации режима короля Амануллы-хана в Афганистане.
Один из приверженцев и разработчиков советской теории партизанской войны. Оставил военно-теоретические труды по Афганистану и практике диверсионно-разведывательной деятельности в тылу противника. Автор книги «Афганистан в огне» (М.-Л., 1929 г.). Воинское звание — комкор (1935 г.). По ложному обвинению репрессирован и расстрелян в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
Были соблюдены и другие условия конспирации (у красноармейцев и командиров отсутствовали личные документы, а штабная документация не указывала на принадлежность данной части к РККА). При этом В.М. Примаков и его товарищи по данному предприятию, очевидно, осознавали, что в случае провала их миссии официальные советские власти от них просто-напросто откажутся. Должны они были понимать и то, что их действия и действия самого Примакова в данном случае будут представлены в качестве проявления «личной авантюры бонапартистского толка». Во всяком случае, именно так они были расценены во время тайного следствия и незаконного судилища, организованных органами НКВД против комкора В.М. Примакова в 1937 году. Но всё это будет потом…
Разумеется, силами одного лишь небольшого советского отряда подавить антиправительственное восстание и захватить афганскую столицу, тем более удерживать её, было немыслимо. Но в случае успеха данной акции «дружественному» монархическому режиму Амануллы-хана в будущем можно было бы диктовать определённые условия. Впрочем, не исключено, что кому-то в Кремле тогда виделась возможность поднять таким образом «народное восстание» в Афганистане против местных феодалов и других «угнетателей трудового народа». Во всяком случае, других разумных причин для объяснения подобного шага советского руководства найти сложно. При этом понятно, что Советский Союз исходил в данном случае прежде всего из своих собственных государственных и политических (геополитических) интересов.
Прелюдией при определении целей данной экспедиции и решении вопроса о формировании отряда под командованием В.М. Примакова была встреча в Москве, состоявшаяся в марте 1929 года. На ней присутствовали советские представители во главе с генеральным секретарём ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным с одной стороны и министр иностранных дел Афганистана Гулам Садик-хан, прибывший вместе с генералом Гуламом Наби-ханом Чархи с другой стороны. Подробности этого рандеву не известны, однако очевидно, что в ходе его обсуждалась политическая ситуация в Афганистане и меры советского правительства по оказанию военной помощи «дружественному» монархическому режиму короля Амануллы-Хана. С правовой точки зрения, данная миссия была обоснована статьями советско-афганских договоров «О дружбе» (1921 г) и «О нейтралитете и взаимном ненападении» (1926 г), хотя официально не афишировалась в силу вполне понятных причин.
При оценке обстановки и принятии решения советским руководством были приняты во внимание доводы афганской стороны о том, что после пересечения границы Афганистана к советскому отряду примкнут многочисленные сторонники из лагеря сторонников короля Амануллы-хана, чего на самом деле не произошло. Однако здесь обратим особое внимание на то обстоятельство, что в силу указанных ранее аргументов афганской делегации советский отряд «специального назначения» должен был стать как бы организационным ядром в борьбе с афганскими мятежниками. Иными словами, он должен был взять на себя исполнение конкретной задачи «специального назначения», а именно — задачи организации повстанческого движения на территории сопредельного государства.
В этой связи вполне резонно можно предположить, что во время указанного контакта в Кремле между советской и афганской сторонами последняя аргументировала необходимость военного участия СССР в этом конфликте вмешательством Великобритании во внутренние афганские дела. Во всяком случае, В.М. Примаков в последующем утверждал, что руководитель афганских мятежников Бача Саккау был агентом английского «супершпиона» полковника Лоуренса. Так ли это было на самом деле или нет, до сих пор является вопросом дискуссионным. Хотя понятно, что для советской стороны подобная точка зрения на афганские события 1929 года в силу идеологических соображений была наиболее предпочтительной и выгодной.
Первой акцией советского отряда «специального назначения» под руководством В.М. Примакова стало проникновение 15 апреля 1929 года на сопредельную территорию через Амударью в районе Термеза. Кстати сказать, переправа красноармейцев через полноводную для того времени года реку была осуществлена практически в том же месте, где и в декабре 1979 года был установлен понтонный мост, обеспечивавший ввод «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан. Впрочем, это, как мог заметить внимательный читатель, далеко не первое совпадение и далеко не первая параллель между этими историческими событиями.
Далее последовало нападение на афганскую пограничную заставу Патта-Гисар (или «Пата Кисар». — Примеч. В.К.). Захватив укрепления, оборонявшиеся пятьюдесятью сор-бозами, то есть афганскими солдатами, красноармейцы во встречном бою разгромили и пытавшийся прийти на выручку пограничникам вооружённый афганский отряд из близлежащего военного гарнизона Сия-Гарта (или «Сиях-Герда». -Примеч. В.К.). Далее последовал стремительный марш на провинциальный центр Мазари-Шариф, который с ходу и был успешно захвачен советским «разведывательно-диверсионным формированием». На очереди стоял… Кабул.
Однако уже дошедшие до Айбака красноармейцы Примакова были неожиданно для них остановлены приказом из Москвы, повелевавшим им немедленно вернуться на территорию СССР Очевидно, основанием для такого распоряжения стало поступившее в Кремль по дипломатическим и разведывательным каналам сообщение о том, что верные Аманнуле-хану войска разбиты под Кабулом. Что сам вновь потерявший монаршую власть эмир вместе со своей семьёй и семьёй брата Инаятуллы-хана покинул теперь уже навсегда территорию Афганистана[66].
По некоторым сведениям, в ходе этого боевого (специального) рейда по афганской территории «разведывательнодиверсионный» отряд под командованием В.М. Примакова потерял убитыми и ранеными порядка 120 красноармейцев и командиров. В свою очередь тогдашние потери афганской стороны были оценены в восемь тысяч человек, хотя эти цифры представляются нам завышенными.
Реализовать основную цель, то есть способствовать восстановлению в Кабуле власти «дружественного» монархического режима, не удалось. Вместе с тем тогдашнему советскому руководству хватило разума, чтобы не расширять своё вмешательство во внутренние афганские дела. Очевидно, для этого были и определённые идеологические мотивы, ведь Советский Союз во главе со своими коммунистическими лидерами не был заинтересован в широкой огласке своей поддержки монархического режима в Афганистане. Хотя всё-таки при посылке красноармейского вооружённого отряда «специального назначения» в сопредельную страну лидеры СССР руководствовались прежде всего не столько идеологическими мотивами, сколько государственными интересами своей собственной державы.
В общих чертах таковой была история первого вооружённого проникновения советских войск или, иными словами, первого отряда советского «спецназа» на территорию соседнего государства и первая попытка вмешательства СССР во внутреннюю афганскую междоусобицу. При этом не будем забывать, что в тот период вооружённых вояжей на землю Советского Союза с территории Афганистана, осуществлявшихся разного рода белогвардейско-басмаческими формированиями, было значительно больше. Что происходило даже во время нахождения у власти «дружественного» короля Амануллы-хана, который имел весьма ограниченные возможности для полного и окончательного решения данной проблемы. Но, во всяком случае, хотя бы имел желание для снятия этого вопроса с повестки дня советско-афганских межгосударственных отношений.
3. Последующее развитие советско-афганских отношений
«Сын водоноса» (Бача Саккау), захвативший власть в Кабуле и провозгласивший себя эмиром Афганистана под именем Хабибуллы-хана, продержался на троне около полугода. Тогда же в Кандагаре объявился другой «афганский эмир» Али Ахмад-хан, который был в последующем схвачен и доставлен в цепях в столицу. Здесь, в Кабуле, один самозванец казнил другого самозванца. Афганская междоусобица продолжалась. В силу национальных особенностей Афганистана у «сына водоноса» Хабибуллы-хана, происходившего из таджикского меньшинства, было мало перспектив для того, чтобы прочно удержаться на престоле. Очередное вооружённое восстание подняли воинственные пуштунские племена во главе с бывшим военным министром генералом Надир-ханом. Они сумели захватить Кабул. Бача Саккау был обезглавлен.
Вновь коронованный эмир Афганистана (октябрь 1929 г), каковым стал, разумеется, Надир-хан (с этого времени именуемый Надир Шахом. — Примеч. В.К.), ни с кем не пожелал делить завоёванную власть и попытался «закрутить гайки». Он стремился «в зародыше задушить» нововведения, привнесённые во внутреннюю жизнь просвещённым монархом Амануллой-ханом. По стране прокатилась волна кровавых репрессий. Одной из первых её жертв стал сподвижник Амануллы-хана, бывший посол Афганистана в Советском Союзе генерал Мохаммад Вали-хан, осуждённый по надуманному обвинению и зверски казнённый в феврале 1930 года.
Ответом на неоправданно жёсткие полицейские меры, предпринимаемые королевским режимом, в частности на разгон политической организации «Джаван афган» («Афганская молодёжь») стал рост терроризма внутри страны. Жертвой этого террора стал и сам король Надир Шах, убитый 8 ноября 1933 года. Верховная власть в стране перешла к его девятнадцатилетнему сыну Захир Шаху, продолжившему династический пуштунский род клана мухаммадзай племени дуррани.
Информация к размышлению
Из биографии
последнего короля Афганистана Захир Шаха
Родился 15 октября 1914 года в Кабуле. Учился в кабульских лицеях «Хабибия» (1920–1923 гг.) и «Истикляль» (1923–1924 гг.), а также во Франции (1924–1930 гг.). После возвращения в Афганистан окончил военное училище в Кабуле (1931 г.). Через год был назначен заместителем министра национальной обороны, а ещё через год — министром просвещения Афганистана. Вступил на престол в ноябре 1933 года. После чего без изменений остались не только основные направления внешней и внутренней политики Афганистана, но и состав правительства страны, возглавлявшегося его дядей Мохаммадом Хашим-ханом.
На протяжении последующих почти двадцати лет реальная власть в стране принадлежала трём дядям Захир Шаха. Это было связано с тем, что в силу местных традиций король считался слишком молодым для того, чтобы править. Захир Шах проявил себя как реалистичный и достаточно мудрый политик. Однако был отстранён от власти в 1973 году во время своего пребывания на отдыхе в Италии. Относительно бескровный государственный переворот в Афганистане был организован его двоюродным братом и зятем, принцем Мохаммадом Даудом.
После получения известия о свержении с трона Захир Шах отправил поздравления афганскому народу и пожелал ему дальнейшего процветания. В ответ на широкий жест бывшего монарха руководство вновь провозглашённой Республики Афганистан позволило своему низложенному королю забрать все «накопленные» и принадлежавшие его семье драгоценности и сбережения, которые были доставлены в Италию советским самолётом ИЛ-18, обслуживавшим по договору аренды афганских правителей.
Здесь, на берегах Адриатического и Средиземного морей Захир Шах провёл долгую и безбедную жизнь. Несмотря на самоустранение от политики, на Захир Шаха в это время неоднократно оказывали давление и совершали покушения, которые так и не достигли своей конечной цели.
Тем не менее после проведения Соединёнными Штатами первого этапа «антитеррористической» операции в Афганистане и свержения правительства талибов бывший король вернулся на родину. Однако разумно воздержался от разного рода сомнительных предложений по восстановлению в Афганистане монархического правления.
По причине не прекращавшихся с территории Афганистана басмаческих налётов на города и кишлаки советских среднеазиатских республик отношения между СССР и его южным соседом в тридцатые годы были далеки от радужных. Ко всему прочему в это время афганское руководство подпало под влияние фашистской Германии, снабжавшей национальную армию боевой техникой, направлявшей сюда своих многочисленных военных и гражданских советников и специалистов.
Германия настойчиво пыталась втянуть Афганистан в союз против Великобритании и Советского Союза. Несмотря на это, афганскому правительству хватило государственной мудрости и воли, чтобы заявить о нейтралитете и противостоять втягиванию страны во Вторую мировую войну.
Когда осенью 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль предложил советскому правительству в ответ на усиление прогерманских настроений в Афганистане и Иране ввести в эти страны свои войска, Советский Союз подошёл к этому вопросу довольно взвешено. В октябре 1941 года СССР выступил с меморандумом, в котором призвал Кабул строго придерживаться политики нейтралитета и положений советско-афганских межгосударственных договоров двадцатых и тридцатых годов. Этот меморандум впоследствии был поддержан Лондоном и Вашингтоном.
В то время правительства Великобритании и США согласились совместно с Советским Союзом следовать осторожной и согласованной союзнической позиции в отношении Афганистана. Как известно, в отношении Ирана тогда было принято иное решение, и в августе-сентябре 1941 года войска Советского Союза на основании положений советско-иранского договора 1921 года вошли на его территорию. Одновременно в Иран по предложению советской стороны были введены английские армейские части, как войска союзника СССР по антигитлеровской коалиции.
После окончания Второй мировой войны и недолгого периода единения держав с разными общественно-государственными устройствами настало время холодной войны. Постепенно США и их партнёры стали осуществлять на практике планы создания военного окружения против СССР Одной из составных частей этой политики была реализация операции «Гиндукуш» (1948 г), предусматривавшей оказание Афганистану финансово-технической помощи в обмен на проамериканскую (точнее, антисоветскую. — Примеч. В.К.) позицию.
В соответствии с этим планом Соединённые Штаты предусматривали определённые шаги по дестабилизации внутренней политической обстановки в самом Афганистане в случае попытки его сближения с Советским Союзом. Когда же в 1950 году американцы стали навязывать жёсткие политические условия в обмен на поставку вооружений афганской армии, правительство короля Захир Шаха постепенно стало переориентироваться в сторону своего северного соседа.
В начале 1950-х годов в Афганистане произошла некоторая либерализация общественной жизни: был несколько демократизирован закон о печати, появились новые относительно независимые от правящего режима периодические издания. Оживилась политическая жизнь, возникли новые общественные организации и партийные структуры. Тогда на общественно-политической арене страны появились «Виш Зильмиян»[67] (или «Викхе-Залмайян». — Примеч. В.К.), «Клуб-и-мелли» («Национальный клуб», возглавляемый принцем М. Даудом. — Примеч. В.К.), «Ватан» и другие структурные общественно-политические образования. Однако все эти организации, а также оппозиционные газеты и журналы легально просуществовали недолго (до 1952 г).
В этот период Соединённые Штаты начинают активизировать свою политику в центрально-азиатском регионе. В 1953 году они активно способствовали восстановлению на троне в Иране короля (шаха) Мохаммада Пехлеви. В 1954 году США заключили с Пакистаном соглашение о сотрудничестве, которое в следующем году было официально оформлено двусторонним межгосударственным договором.
1955-й стал годом настойчивых попыток вашингтонской администрации включения Афганистана в Багдадский пакт (вместе с Ираном, Ираком, Пакистаном, Турцией, Великобританией и США). Эти попытки закончились для американской стороны провалом. В ответ США прекратили оказывать Афганистану военную и экономическую помощь.
В этих условиях правительство короля Захир Шаха вновь обратило внимание на своего северного соседа, предприняв соответствующие шаги к возрождению и активизации советско-афганских экономических и военных отношений. В 1955 году состоялся официальный государственный визит в Афганистан советской делегации во главе с премьер-министром СССР Н.С. Хрущёвым. В ходе этой встречи на высшем уровне удалось достичь соглашения о предоставлении Советским Союзом кредита афганской стороне в размере 100 миллионов долларов на весьма льготных условиях.
С 1956 года между СССР и Афганистаном начинается тесное военно-техническое сотрудничество. С этого времени Советский Союз стал осуществлять поставки своему южному соседу военной техники и оборудования, а также направлять своих военных специалистов. Так постепенно Афганистан оказался в зоне советского влияния.
В 1960-е годы СССР становится для Афганистана самым крупным поставщиком финансовой и технической помощи. В Советском Союзе в это время начали обучаться многие афганские военные и гражданские специалисты. Политике развития всесторонних отношений с северным соседом активно способствовал премьер-министр (с 1953 г) Мохаммад Дауд, принц и двоюродный брат короля Захир Шаха. В этот период отношения между Советским Союзом и Афганистаном приобретают по настоящему дружественный характер. Что ещё раз было подчёркнуто на высшем уровне во время визита в Афганистан председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева в 1964 году.
Разумеется, Советский Союз в условиях тогдашнего противостояния «двух мировых систем» (или двух мировых сверхдержав), гонки вооружений и холодной войны был заинтересован в развитии добрососедских отношений со своим южным соседом. При этом высшие советские руководители, несомненно, хорошо помнили о размещении незадолго до этого рядом с границами СССР в Турции американского ядерного оружия. Об ответном шаге Советского Союза, выразившемся в размещении своих ракет на Кубе. А также о разразившемся впоследствии Карибском кризисе, когда мир реально стоял на грани превращения холодной войны в термоядерную.
Да, были у СССР в тот период свои интересы в Афганистане. И они имели под собой вполне объективные основания, что сегодня было бы абсурдно отрицать. Другое дело США, до государственной границы которых от Афганистана пролегали тысячи километров. Тем не менее, начиная с 1960-х годов, Соединённые Штаты постепенно стремились вовлечь эту далёкую, слаборазвитую экономически страну в орбиту своих «национальных» интересов, что привело к неизбежному соперничеству между СССР и США в центрально-азиатском регионе.
4. НДПА: внутрипартийные склоки, контакты с КПСС
В 1960-х годах общественно-политическая жизнь в Афганистане заметно оживилась. Здесь значительную роль начинала играть местная интеллигенция. Вновь стали создаваться политические объединения, некоторые из них получили возможность легализовать свою деятельность. Среди последних были исламистские политические организации, а также маоистская «Шоале Джавид» и ультранационалистическая «Афган Меллат».
В 1963 году был образован Объединённый национальный фронт Афганистана (ОНФА), в него вошли литератор Н.М. Тараки, государственные чиновники Б. Кармаль и Ш.М. Дост, офицер полиции М.А. Хайбар, профессиональный военный М.Т. Бадахши и другие. Изначально ОНФА создавался как ядро будущей политической партии, которая в последующем на своём учредительном съезде приняла название Народно-демократической партии Афганистана (НДПА).
Этот съезд проходил конспиративно 1 января 1965 года на окраине Кабула, в доме, принадлежащем Н.М. Тараки. Съезд утвердил программу и устав НДПА, а также избрал её руководящие органы.
Генеральным секретарём ЦК партии стал тогда Н.М. Тараки, его же ближайшими сподвижниками и членами центрального комитета были провозглашены С.М. Кешт-манд, С.М. Зерай, ГД. Пандшери, М.Т Бадахши, Ш. Шахпур и Б. Кармаль, ставший одновременно одним из трёх секретарей ЦК НДПА. Четверо человек (Ш. Вали, К. Мисак, М. Задран, А.В. Сафи) были избраны кандидатами в члены центрального комитета партии. Что касается принятой на съезде программы НДПА, то здесь в качестве главной цели её деятельности определялось «построение социалистического общества на основе творческого применения общих революционных закономерностей марксизма-ленинизма в национальных условиях афганского общества…»
Таким образом, в Афганистане была образована новая партия левого (точнее, «левацкого». — Примеч. В.К.) типа, провозглашённая «авангардом трудящихся классов и высшей формой политической организации рабочего класса». Разумеется, её создание и последующая деятельность проходили под заметным влиянием и непосредственным «патронажем» со стороны ЦК КПСС.
Своеобразным связующим звеном между центральными руководящими органами КПСС и НДПА выступала тогда резидентура Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР в Афганистане. В этой связи со стороны ЦК Коммунистической партии Советского Союза ей нередко напрямую давались соответствующие указания и «деликатные» поручения. Например, тайно передать некую денежную сумму для поддержки организационно-партийной деятельности активистов народно-демократической партии.
Осенью 1965 года НДПА приняла участие в выборах депутатов нижней палаты афганского парламента. Четыре её представителя (Б. Кармаль, Н.А. Нур, А. Ратебзад и Файзиль-уль-Хак) стали делегатами этого выборного органа государственной власти. В конце 1965 года генеральный секретарь ЦК НДПА Н.М. Тараки осуществил неофициальную поездку в Советский Союз.
Здесь состоялся ряд встреч лидера «братской» Народно-демократической партии Афганистана с видными партийными функционерами из ЦК КПСС Р.А. Ульяновским и Н.Н. Симоненко. В ходе этих консультаций советские товарищи рекомендовали Н.М. Тараки сосредоточиться на решении организационно-партийных вопросов, воздержаться от «левацкого радикализма», не ставить перед собой немедленную задачу по свержению королевского режима. Ведь с этим режимом у СССР были весьма хорошие отношения.
Информация к размышлению
Из биографии
генерального секретаря НДПА, председателя Революционного совета и премьер-министра ДРА Нур Моххамада Тараки
Н.М. Тараки родился в 1917 году в местечке Мукур (провинция Газни) в простой афганской семье (отец был скотоводом). По национальности пуштун (племя гильзай, клан тарак, ветвь буран). Окончил в Мукуре шесть классов, а затем переехал в Кандагар, где начал трудовую деятельность в качестве рабочего на фабрике. Через два года был направлен в Индию на работу от кандагарской торговой фирмы. С юношеских лет стал проявлять интерес к изучению политических вопросов. В 1953–1965 годах активно занимался общественно-политической деятельностью, написал несколько литературных произведений («Скитания Банга», «Белый», «Одинокий») и сделал ряд публицистических выступлений в периодической печати. Выступил одним из создателей общественно-литературного течения, а, по существу, политической организации «Пробудившаяся молодёжь», которая выступала с 1947 года за демократизацию общественной жизни в Афганистане.
1 января 1965 года в кабульском доме Н.М. Тараки нелегально состоялся первый (учредительный) съезд Народно-демократической партии Афганистана. Съезд утвердил программу и устав, содержащие элементы «марксизма-ленинизма», а также избрал руководящие органы партии. Н.М. Тараки стал генеральным секретарём ЦК НДПА. Со временем (1966 г.) два крыла НДПА, имевшие названия «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»), вышли за рамки внутрипартийной дискуссии и из фракций фактически превратились в самостоятельные партии.
Из них первую возглавлял Н.М. Тараки, а вторую — Б. Кармаль. После объединения НДПА в июне 1977 года его полномочия генерального секретаря объединённой партии были подтверждены. После Саурской (Апрельской) революции (военного переворота) 1978 года стал председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА. Убит после сентябрьского 1979 года военного переворота, организованного его заместителем Хафизуллой Амином. Характеризовался как мягкий, идеалистически настроенный и не имевший жёсткой государственной воли человек.
Очевидно, уже тогда, воспитывая и поощряя внутреннюю афганскую оппозицию в лице руководства народно-демократической партии, руководство КПСС проявляло определённые осторожность и сдержанность в оценке перспектив её деятельности. Ко всему прочему отношения между Афганистаном и Советским Союзом в ту пору были вполне удовлетворительными, несмотря на то что власть в Кабуле осуществлял монархический режим Захир Шаха, а в Москве — коммунистическая партия во главе с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичём Брежневым.
Следует подчеркнуть, что почти сразу после образования НДПА в ней началась борьба за лидерство между Н.М. Тараки и Б. Кармалем. В её основе лежали прежде всего личные амбиции этих партийных функционеров. Впрочем, были и некоторые тактические разногласия, проявлявшиеся в том, что Б. Кармаль и его сторонники настаивали на активизации легальных форм борьбы за власть, парламентской деятельности, на просветительской работе с населением. Настаивали они и на расширении социальной базы для приёма в партию, которая, по их мнению, должна была включать и представительство от зажиточных слоёв общества.
В свою очередь Н.М. Тараки и его сподвижники склонялись к полному переходу на нелегальную (революционную) работу, провозглашению НДПА коммунистической партией, созданию при необходимости ЦК партии в эмиграции. При этом Н.М. Тараки настаивал на строгом соблюдении классового подхода к членству в НДПА, полагая недопустимым принятие в её состав представителей имущественных классов и королевской семьи. Понятно, что закономерным следствием такой обстановки, когда ни одна из сторон не желает прислушаться к противоположному мнению, должен был стать раскол НДПА. Осенью 1966 года это и произошло.
Тогда Б. Кармаль со своими сторонниками (члены ЦК НДПА Д. Панджшери, Ш. Шахпур, С. Кештманд, кандидаты в члены ЦК А.Х. Шараи, С. Лаек, Б. Шафи, А.В. Сафи, Н.А. Нур) вышли из ЦК партии, сформировали новую фракцию, получившую название «Парчам» («Знамя») или «НДПА — авангард всех трудящихся».
В свою очередь Н.М. Тараки и сотоварищи стали именовать себя «НДПА — авангард рабочего класса» или «Хальк» («Народ»). Хотя как сподвижники Б. Карамаля, так и Н.М. Тараки на словах признавали цели, задачи, провозглашённые учредительным съездом НДПА, а также её программу и устав, на деле это были фактически две различные партии. У них имелись собственные руководящие органы, своя символика, свои печати и иные атрибуты «самостийности». Они независимо друг от друга осуществляли приём новых членов своих партийных организаций и другие решения.
В этой обстановке ЦК КПСС неоднократно и настойчиво принимал шаги для прекращения междоусобицы в «братской» партии, однако значительное время эти усилия давали мало положительных результатов. В ходе этой работы ЦК КПСС постоянно ориентировал «Парчам» Б. Кармаля и «Хальк» Н.М.Тараки на поддержку республиканского режима, то есть на содействие М. Дауду. В свою очередь последнему, которого даже во внутренних документах КПСС того времени именовали «выдающимся государственным деятелем» Афганистана, настойчиво рекомендовали воздержаться от каких-либо репрессивных шагов в отношении «левых сил», то есть «парчамистов» и «халькистов».
Информация к размышлению
СЕКРЕТНО
Оперативная информация ЦК КПСС «О некоторых мерах по оказанию помощи прогрессивным политическим организациям Афганистана в преодолении разногласий между ними».
Прогрессивные афганские политические организации «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ»), образовавшиеся в 1967 году в результате раскола Народно-демократической партии Афганистана, непрерывно ведут борьбу за право «предоставлять компартию в стране». После провозглашения Афганистана республикой в июле 1973 года к этому добавилось соперничество в деле продвижения своих людей на важные государственные посты, причём обе стороны не брезговали никакими средствами. Одновременно они развернули активную политическую работу в армии, что вызвало беспокойство главы государства и премьер-министра Мохаммала Дауда, который считает армию своей основной опорой.
Опасаясь, что эти организации в определённых условиях смогут играть значительную роль в политической жизни страны, М. Дауд в начале 1974 года начал проводить линию на ограничение их влияния и дал указания органам безопасности установить контроль за деятельностью этих организаций и задокументировать их возможные связи с советскими представителями.
В соответствии с решениями ЦК КПСС руководителям «Парчам» Бабраку Кармалю и «Хальк» Нуру Тараки, которые поддерживают неофициальные контакты с ЦК КПСС через представителя Комитета госбезопасности при Совете министров СССР в Кабуле, неоднократно высказывались рекомендации о необходимости прекращения междоусобной борьбы и сосредоточении их усилий на поддержке республиканского режима. Эти рекомендации оказали своё положительное воздействие. Б. Кармаль и Н. Тараки на состоявшейся недавно встрече договорились о прекращении взаимной борьбы и о более активной поддержке республиканского правительства.
Принимая во внимание нездоровую обстановку, существующую в рядах афганских прогрессивных сил, а также характер отношений между «Парчам» и «Хальк» и руководством республики Афганистан, представляется осуществить следующее:
1. Продолжать оказывать Б. Кармалю и Н. Тараки практическую помощь в деле прекращения междоусобной борьбы между «Парчам» и «Хальк» и объединения их в революционно-демократическую партию, способную сплотить все прогрессивные, демократические и патриотические силы страны в борьбе за жизненные интересы рабочего класса и крестьянства, всех трудящихся слоёв афганского общества.
2. Прогрессивная народно-демократическая партия Афганистана, название которой будет определено её руководством, должна иметь свою программу, показывающую основные направления дальнейшего движения Республики Афганистан по пути экономического и социального прогресса, повышения материального благосостояния и культурного уровня населения. Программа должна быть составлена с таким расчётом, чтобы её могли принять не только левые и демократические силы, но и все другие слои афганского общества, стоящие на позициях поддержки республиканского режима.
3. Разработку программы революционно-демократической партии мог бы осуществить совместно с Б. Кармалем, руководитель «Хальк» Н. Тараки, составитель программы Народнодемократической партии Афганистана, принятой в 1965 году, но не отвечающей требованиям настоящего времени. После её утверждения соответствующим партийным органом она должна быть по возможности широко обнародована.
4. Представляется назревшей необходимость периодических конфиденциальных встреч представителей Международного отдела ЦК КПСС с Б. Кармалем и Н. Тараки для бесед по перечисленным выше вопросам, а также по проблемам стратегии и тактики партии в современных условиях в Афганистане.
В целях обеспечения сохранения в тайне таких встреч проводить их целесообразно при содействии братских партий в третьих странах, находящихся в дружеских отношениях с Афганистаном (Индия, Ирак, Сирия и др.), куда легче всего оформить выезд афганским гражданам.
С МИД СССР и КГБ при СМ СССР согласовано.
Проект постановления ЦК прилагается.
Международный отдел ЦК КПСС
1974 год (Без подписи)
Проводя подобную линию, ЦК КПСС, очевидно, полагал уровень развития отношений между Советским Союзом и Афганистаном во время правления М. Дауда вполне приемлемым для СССР В свою очередь иметь дело с «прогрессивными левыми силами» «Хальк» и «Парчам» в лице Н.М. Тара-ки и Б. Кармаля, постоянно враждующих между собой, было занятием хлопотным и малопродуктивным. Тем не менее контактировать с управляемой афганской оппозицией, как бы на всякий случай, было нужно.
Это, по крайней мере, являлось весомым аргументом в плане осуществления политического давления на М. Дауда. В случае же, когда б руководство Афганистана заняло недружественную или враждебную позицию в отношении своего северного соседа, тогда можно было бы подумать и о превращении «карманной» оппозиции в ядро будущей социальной революции или военного переворота. Любопытно, что, проводя эту работу, ЦК КПСС пользовался совершенно секретными источниками ГРУ Генерального штаба, КГБ и МИД СССР, а также давал прямые указания и поручения Комитету государственной безопасности при Совете министров СССР и министерству иностранных дел Советского Союза, то есть государственным органам власти.
Информация к размышлению
СЕКРЕТНО
Оперативная информация ЦК КПСС «Об обращении к главе Республики Афганистан
М. Дауду и руководителям прогрессивных политических организаций «Парчам» и «Хальк»
«Поступающая из Афганистана информация свидетельствует о том, что руководство республики в последнее время стало осуществлять мероприятия, направленные на подавление прогрессивных сил страны, активизировавших свою деятельность после государственного переворота в июле 1973 года (шифротелеграммы, спец. КГБ из Кабула № 124 от 28.02.74 г. и № 135 от 4.03.74 г.; спец. ГРУ из Кабула № 74 от 7.03.74 г.).
Первый удар нанесён по военной авиации, оснащённой советской техникой, где влияние этих сил было особенно велико. На заседании ЦК республики, проходившем под председательством М. Дауда, 26 февраля с.г. принято решение о смещении с должностей главнокомандующего ВВС и ПВО Афганистана полковника Кадыра и начальника штаба ВВС и ПВО подполковника Акбара, активных участников переворота, получивших военное образование в Советском Союзе.
Имеются сведения о том, что в скором времени будут сняты со своих постов министр по делам границ Пача Голь, министр связи Хамид и министр внутренних дел Ф. Мухаммед. Все эти министры являются членами прогрессивных политических организаций «Парчам» («Знамя») и «Хальк» («Народ») и друзьями нашей страны.
Для того чтобы не допустить проникновения передовых идей в армейскую среду, командир Центрального корпуса по распоряжению руководства республики запретил офицерам поддерживать связи с «гражданскими министрами», под которыми подразумеваются прогрессивно настроенные члены правительства. За поведением офицеров во внеслужебное время установлено негласное наблюдение, в частности за их контактами с советскими военными специалистами.
В Кабуле упорно циркулируют слухи о возвращении на государственную службу и в армию чиновников и офицеров, известных своими промонархическими настроениями, которые были уволены после переворота. Новым начальником штаба ВВС и ПВО назначен реакционно настроенный кадровый офицер, получивший образование в США.
По мнению афганских осведомлённых лиц, М. Дауд в настоящее время ожидает реакции Советского Союза на его акцию против прогрессивных элементов, дружественно настроенных к нам. Наше молчание по этому поводу может быть неправильно истолковано им и может поощрить его действовать более решительно.
В связи с этим предоставляется целесообразным, чтобы:
а) МИД СССР направил от имени т. Л.И. Брежнева обращение к М. Дауду с предостережением против принятия репрессивных мер в отношении прогрессивных сил, являющихся надёжной опорой республиканского режима;
б) Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР через имеющиеся в Кабуле возможности, по мере надобности, доводил до сведения М. Дауда мысль о том, что, подавляя левые силы, он ослабляет республиканский режим и укрепляет своих противников, не отказавшихся от планов реставрации монархии;
в.) Международный отдел ЦК КПСС обратился к руководителям прогрессивных политических организаций «Парчам» (Б. Кармалю) и «Хальк» (Н. Тараки) с призывом мобилизовать все свои силы на поддержку республиканского режима, проявлять выдержку и не допускать действий, могущих вызвать репрессивные меры властей.
Проект постановления ЦК КПСС прилагается.
Март 1974 года»
Следует отметить, что, пытаясь прекратить вражду между Н.М. Тараки и Б. Кармалем, между «халькистами» и «парчамистами», в руководстве ЦК КПСС к ним относились не равнозначно. В начале 1970-х годов большие внимание и поддержку получал Н.М. Тараки, в котором партийные функционеры из однопартийной страны Советов видели больше классового родства. В начале 1970-х годов в Советском Союзе даже издаётся книга Н.М. Тараки «Новая жизнь», тираж которой в дальнейшем был переправлен в Афганистан. К «братской» народно-демократической партии был приставлен советский наставник Н.А. Дворенков, официально занимавший пост заместителя директора института востоковедения академии наук СССР
По мнению хорошо знавших Николая Александровича людей, он в значительной степени поддерживал заблуждения и иллюзии Н.М. Тараки относительно возможностей «пролетарской революции» в Афганистане, делая при этом далеко не верные прогнозы дальнейшего развития событий в этой стране[68].
К тому времени численность «Хальк» Н.М. Тараки по некоторым данным (их в ЦК КПСС считали завышенными) составляла около 25 тысяч человек. Районные организации «халькистов» имели на территории страны довольно разветвлённую сеть. Через некоторое время после разрыва отношений между «Хальк и «Парчам» часть сторонников Б. Кармаля (Д. Панджшери, Ш. Шахпур и А.Х. Шараи) возвратились к Н.М. Тараки и даже были восстановлены в центральном комитете.
В свою очередь «Парчам» Б. Кармаля в тот период насчитывала порядка 4 тысяч членов. В основном это были представители интеллигенции и студенчества, а также чиновники и военнослужащие. В чём на самом деле состояли различия между «Парчам» и «Хальк»? Пожалуй, они прослеживались не столько в классовом плане, сколько состояли в презрении столичных жителей («парчамистов») к провинциалам («халь-кистам»). В свою очередь не меньшим неуважением «халькисты» отвечали «парчамистам», объявляя себя истинными революционерами, а своих оппонентов — «ревизионистами», «представителями интересов буржуазии».
Однако при всём этом в конфликте между фракциями НДПА (партиями) «Хальк» и «Парчам», пожалуй, в большей мере проявляли себя явления этнического характера, особенности афганского национального менталитета, принадлежности и верности тому или иному племени, клану, сообществу, лидеру. Поэтому предпринимавшиеся попытки к объединению «халькистов» и «парчамистов» длительное время проваливались, как только на повестке дня вставали вопросы о кандидатуре генерального секретаря и персональном составе центрального комитета НДПА.
Зачастую получалось так, что сами Н.М. Тараки и Б. Кармаль, а также их сторонники большую часть своих сил, энергии, воли отдавали борьбе между собой, чем реализации тех целей и задач, для достижения которых, собственно говоря, и была создана НДПА. Нередко их политические митинги и демонстрации превращались в место для выяснения личных отношений или, говоря другими словами, в заурядные драки и потасовки, которые усмиряла и (или) разгоняла полиция. Причём происходило это как в бытность монархического режима Захир Шаха, так и при республиканском правительстве М. Дауда.
Однако давайте вернёмся к событиям более ранним. Ведь, разбираясь в партийных противоречиях НДПА, «Хальк» (Н.М. Тараки) и «Парчам» (Б. Кармаль) мы несколько упустили из вида те события, которые происходили на общегосударственном уровне. Впрочем, это было сделано умышленно, потому что без ясного понимания данного круга вопросов трудно разобраться в дальнейших перипетиях постоянно будораживших Афганистан революционных и прочих смут.
5. Афганистан после свержения монархии
Государственный переворот в Кабуле 17 июля 1973 года был осуществлён принцем Мохаммадом Даудом «малой кровью». По официальным данным в те дни погибли восемь человек, из которых четверо были военнослужащими, а четверо — полицейскими. Тогда М. Дауд, находившийся к тому времени уже десять лет в отставке, в которую он ушёл с должности премьер-министра Афганистана, сумел привлечь на свою сторону не только остававшихся ему лично преданных высших офицеров армии, но и ведущих деятелей «Парчам».
Успешному осуществлению переворота, несомненно, способствовало отсутствие в стране короля Захир Шаха, который в это время находился за границей, а также взвешенная и разумная позиция свергнутого эмира, отказавшегося от планов вооружённой реставрации монархии и возвращения себе трона. Впрочем, в этой связи имеет место версия о том, что июльский военный переворот 1973 года, организованный и возглавленный М. Даудом, был им на самом деле «согласован» с королём Захир Шахом, для властвования которого в Афганистане ко времени начала этих событий сложились крайне неблагоприятные условия.
Информация к размышлению
Из биографии
Президента Республики Афганистан Мохаммада Дауда
М. Дауд родился в 1909 году в Кабуле. Принц, двоюродный брат короля Захир Шаха. Среднее образование получил во Франции. Состоял на действительной военной службе в афганской армии. В 1932 году командовал дивизией, в 1938 году назначен командующим центральными силами (Кабульский военный округ). Воинское звание — генерал-лейтенант. В 1946 году вошёл в кабинет правительства Шах Махмуда в качестве министра национальной обороны Афганистана.
В 1948 году был назначен послом Афганистана во Франции. По возвращении на родину в 1950 году развернул активную деятельность, направленную на отстранение от власти Шах Махмуда. С 1953 года девять с половиной лет был премьер-министром страны, оказывал решающее влияние на короля Захир Шаха в определении внутренней и внешней политики афганского государства. Способствовал развитию национальной экономики.
В годы его руководства правительством в Афганистане при помощи СССР, США, ФРГ был построен ряд важнейших промышленных объектов, началось сооружение гидроэлектростанций и современной инфраструктуры. М. Дауд неоднократно посещал СССР. За линию по «огосударствованию» экономики Афганистана, развитию всесторонних отношений с Советским Союзом был объявлен западной прессой «красным принцем».
Испытывая в частности из-за этого постоянное давление на себя, в том числе и со стороны короля Захир Шаха, был вынужден в марте 1963 года подать в отставку. Проявил себя самостоятельным политиком, дистанциировался от шахского режима. В этот период М. Дауд выступал за отделение правительства от династии и ограничение прерогатив короля, то есть по существу за введение в Афганистане режима конституционной монархии, а не за её упразднение. По своим личным качествам характеризовался как волевой, решительный и властный человек, не чуждый государственным интересам своей страны.
17 июля 1973 года при поддержке верных ему высших офицеров афганской армии, а также «парчамистов» осуществил захват власти в Кабуле. В связи с тем, что сам М. Дауд являлся родственником Захир Шаха, бескровный государственный переворот в большинстве слоёв афганского общества был воспринят, как вполне приемлемый и как «внутреннее дело королевской семьи».
В последующем М. Дауд упразднил монархию и объявил себя президентом республики. Продолжил политику укрепления дружбы и развития добрососедских отношений с Советским Союзом, однако при этом умело играл на противоречиях между СССР и США. В результате военного переворота 27 апреля 1978 года (Саурской революции) был убит.
Как ранее отмечалось, к лету 1973 года для правления короля Захир Шаха создались весьма неблагоприятные условия, недовольство проводимой им в Афганистане политикой стало приобретать массовый характер. В то же время Мохаммад Дауд сохранял высокий авторитет как в целом в стране, так и в особой степени в армии. Достаточно сказать, что в некоторых воинских частях, несмотря на отставку М. Дауда с должности премьер-министра в 1963 году, по-прежнему вывешивались его портреты.
Многие старшие и высшие офицеры вооружённых сил, служебное продвижение которых было предпринято по инициативе Мохаммада Дауда в бытность его министром национальной обороны и премьер-министром страны, преданно ориентировались на своего покровителя и составили костяк будущего государственного переворота. При этом привлечение к заговору «парчамистов» и ряда молодых офицеров левой ориентации также оказалось не лишним.
Однако первая попытка свержения короля Захир Шаха, предпринятая в марте 1973 года, оказалась неудачной. Силами государственной безопасности и полиции было раскрыто существование в армии антимонархической оппозиции. Жизнь участников неудавшегося выступления против королевского режима оказалась под угрозой. Это заставило организаторов заговора принять строжайшие меры для сохранения своих планов в строжайшей тайне и вместе с тем активизировать подготовку к осуществлению государственного переворота.
После отъезда Захир Шаха из страны на лечение летом этого же года для М. Дауда была снята с повестки дня весьма деликатная тема — решение в случае вооружённого выступления дальнейшей судьбы монарха и его семьи, к которой он имел прямое отношение. В свою очередь проводившиеся тогда полевые выходы армейских частей для участия в тактических учениях и боевых стрельбах существенно облегчили заговорщикам осуществление передвижения верных им войск в соответствии с имевшимися планами военного переворота.
В ночь с 16-го на 17 июля 1973 года сторонники Мохаммада Дауда захватили королевский дворец и взяли под стражу остававшихся в стране членов семьи эмира. Одновременно с этим участниками заговора были предприняты меры по аресту видных государственных и военных деятелей, предотвращению связи между членами правительства, верховным командованием и воинскими частями, захвату важнейших государственно-административных учреждений (почты, телеграфа, телефона, государственного банка и т. д.) и коммуникаций (аэродрома, дорог в столицу и т. д.).
Тогда же были блокированы штаб и отдельные части, входящие в состав центрального корпуса афганской армии, которые предназначались для подавления антиправительственных сил. Как это ранее уже отмечалось, несмотря на отдельные попытки противодействия восставшим со стороны командиров, верных королевскому режиму войсковых формирований, данный государственный переворот был осуществлён «малой кровью» или «почти бескровно», как об этом говорили впоследствии его организаторы.
Утром 17 июля 1973 года Мохаммад Дауд выступил по национальному радио. Он объявил об упразднении в Афганистане монархического правления и провозгласил создание республики. Желая отблагодарить активных участников переворота и вместе с тем упрочить свои личные позиции в армии, М. Дауд присвоил наиболее активным офицерам-за-говорщикам, за исключением генералов, воинские звания на две ступени выше имевшихся у них.
Одновременно им была заметно сокращена выслуга лет, требуемая для присвоения очередного офицерского звания. Всем отличившимся сержантам армии были присвоены звания младших лейтенантов. Последовали и соответствующие кадровые перестановки среди командиров войсковых частей и соединений, а также в центральном аппарате министерства национальной обороны и других ведомствах.
Так впервые в новейшей истории Афганистана армия заявила о себе, как о влиятельнейшей силе в разрешении внутриполитических проблем. Однако было неправильным полагать, что государственный переворот 17 июля 1973 года был делом лишь небольшой группы амбициозных заговорщиков. Свержение монархического режима в Кабуле явилось закономерным результатом общественно-политического развития Афганистана, объективным следствием того неблагоприятного социально-экономического положения, в котором пребывала страна ко времени начала этих событий.
После переворота высшим органом власти Афганистана был провозглашён Центральный комитет республики (далее «ЦКР». — Примеч. В.К.). В него вошли одиннадцать человек, из которых девять были кадровыми военными, в том числе трое — представителями молодого офицерства (капитаны Мохаммад Файз, Пача Гуль и Абдул Хамил). При этом в составе ЦКР четыре его члена состояли в НДПА, из них трое были «парчамистами», а один — «халькистом». Впрочем, эти партийные функционеры в отличие от военных членов кабинета М. Дауда занимали в новом афганском правительстве должности в основном номинального порядка.
Со временем Мохаммад Дауд упразднит Центральный комитет республики, а бывшие активные участники переворота 1973 года будут отправлены им подальше от беспокойной столицы, в провинциальные органы власти и в посольства за рубежом. Так, в Индонезию уедет бывший министр внутренних дел в первом послемонархическом правительстве Мохаммад Файз, а в Болгарию (потом в Ливию. — Примеч. В.К.) — бывший министр по делам племён и границ Пача Гуль. Постепенно в Афганистане фактически будет установлен режим личной диктатуры М. Дауда. А принятая в 1977 году новая Конституция лишь «де юре» закрепит сложившиеся к тому времени в стране политические реалии диктаторской формы правления.
Став главой государства, Мохаммад Дауд во внешней политике умело балансировал между интересами Запада и Востока. Как вполне справедливо отозвался о нём один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ: «Дауд был наиболее счастлив, когда мог зажечь свою американскую сигарету советскими спичками». США взамен на финансово-техническую и военную помощь требовали от него покончить с левыми силами в Афганистане.
В свою очередь СССР чьё традиционно весомое влияние на политику своего южного соседа постепенно стало ослабевать, начал выказывать своё негативное отношение по поводу расширяющихся контактов нового руководства с Соединёнными Штатами, Ираном, Пакистаном, Египтом, Саудовской Аравией и рядом других стран. Тем не менее Советский Союз продолжал оказывать Афганистану значительную экономическую и военно-техническую помощь, содействовал подготовке кадров квалифицированных специалистов в различных областях, посылал в эту страну своих гражданских и военных советников и специалистов.
По ходу времени М. Дауд освободился и от приведших его к власти других попутчиков, каковыми полагал «парчамистов». Потому что на самом деле он никогда не собирался брать курс на построение «социалистического общества» в Афганистане и проведение «широких социальных реформ» за счёт местных феодалов и буржуазии. В его планы не входило и полное подчинение своей политики интересам Советского Союза, а также «мирового коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения». При этом Мохаммад Дауд, несомненно, был государственником, который стремился во главу угла проводимой им политики ставить национальные интересы своей собственной страны.
Что же касается программных народно-демократических, если не социалистических, заявлений, сделанных им после военного переворота, так они остались лишь декларациями и не более того. Но, отстранив от власти «парчамис-тов» и других временных союзников, не удовлетворив амбиции многих приведших его к вершинам власти офицеров, М. Дауд нажил себе немало опасных врагов. В итоге получилось так, что первый президент республиканского Афганистана в значительной мере сам создал свою внутреннюю оппозицию, что в последующем привело его к печальному концу.
Первый крупный заговор против правления Мохаммада Дауда был раскрыт уже через полтора месяца после его прихода к власти в Кабуле. Составили это неудавшееся предприятие бывшие королевские фавориты, утратившие после событий 17 июля 1973 года своё прежнее положение и влияние в стране. Декабрь того же года также был омрачён для М. Дауда новым антиправительственным выступлением. Тогда в число заговорщиков вошли уже новые действующие лица — сторонники экстремистской религиозно-политической группировки «Братья мусульмане». В июле 1975 года и декабре 1976 года были подавлены новые заговоры и выступления против режима правления Мохаммада Дауда. Организаторами и вдохновителями этих акций выступили видные мусульманские деятели Б. Раббани и Г Хекматиар, проповедавшие идею создания в Афганистане исламского теократического государства.
Тем временем «халькисты» вели активную работу по расширению своих рядов. При этом, как и прежде, количество новых членов партии нередко брало верх над их качественным составом. Тем не менее в этот период им удалось значительно расширить своё влияние в армейской среде. Именно тогда среди партийных функционеров значительно выделился Хафизулла Амин, возглавлявший работу военной организации «Хальк».
В августе 1975 года между фракциями НДПА наконец-то было заключено соглашение о прекращении публичной вражды и создании благоприятных условий для совместного сотрудничества. Очевидно, и здесь сталось так, что сам М. Дауд сделал для объединения «халькистов» и «парчамис-тов» в единую партию значительно больше, чем сердобольные наставники из ЦК КПСС. «Добрые дяди» советовали всё решать по-доброму, по-товарищески… А тут сама жизнь заставила, соответствующий политический момент подоспел. Куда было деваться отлучённым от кормила власти в Афганистане «парчамистам»? Вот и пошли они навстречу своим товарищам их «Халька»: нашёлся общий враг, появились и совместные планы.
В июне 1977 года настало время объединительной конференции «Хальк» и «Парчам». Её участниками было подписано совместное заявление «О единстве НДПА», формально провозглашавшее единство партии. Произошло избрание нового состава центрального комитета и политбюро ЦК НДПА, в которые вошли тридцать и десять членов соответственно.
В политическое бюро центрального комитета партии были введены Н.М. Тараки, одновременно вновь избранный генеральным секретарём ЦК НДПА, Б. Кармаль, ставший его заместителем, а также ГД. Панджшери, К. Мисак, Шах Вали, Нур Ахмад Нур, Барек Шафи, Сулейман Лайек, С.А. Кешт-манд, С.М. Зерай (пять «халькистов» и пять «парчамистов»).
На этой конференции произошли острые дебаты относительно личности Хафизуллы Амина, которому протежировал Н.М. Тараки, предлагавший включить его в состав политбюро. Однако Х. Амину, а вместе с ним С. Хашеми были предъявлены обвинения, якобы уличающие их в связях с Центральным разведывательным управлением США и в получении ими «за определённые услуги» денежных средств от этого ведомства. Отвергая своё сотрудничество с ЦРУ, Амин заявил, что нуждался в финансовых средствах для окончания учёбы в Соединённых Штатах и вёл «вынужденную игру» с американскими спецслужбами. В итоге Хафизуллу Амина хоть и не исключили из партии, но с членством в политбюро ЦК НДПА «прокатили». При этом против него голосовали почти все «парчамисты» и только часть «халькистов». Надо сказать, что в последующем Х. Амин, отличавшийся поистине восточным коварством и злопамятностью, подвёл кровавые итоги этой внутрипартийной дискуссии.
О том, как эти «доказательства» причастности Хафи-зуллы Амина к разведывательному ведомству США попали в руки участников июньской 1977 года объединительной конференции НДПА, на сегодняшний день история умалчивает. Но в этой связи, пожалуй, более важно другое: что сам «обвиняемый» свою вину вовсе не отрицал, а старался аргументировать личную связь с ЦРУ причинами «объективного порядка».
Важно и то обстоятельство, что стенограмма заседания этой партийной конференции, не предававшаяся прежде широкой гласности, длительное время находилась в делах ЦК КПСС. Конкретно, у «ответственного», как тогда говорили, работника аппарата РА. Ульяновского.
Однако, когда у отечественных или зарубежных журналистов, общественно-политических деятелей, дипломатов, тех же партийных и армейских политических работников возникал прямой вопрос, касавшийся представления аргументированных доказательств о причастности Х. Амина к ЦРУ, то от ЦК КПСС, да и НДПА получить вразумительный ответ на этот счёт так и не удавалось. От них шла исключительно голословная констатация данного, как представлялось им, очевидного факта. А испрашивать у столь высоких партийных инстанций данные документы для представления их широкой общественности и даже «внутрипартийного пользования» тогда, мягко говоря, не было принято.
Информация к размышлению
Из биографии
генерального секретаря НДПА, председателя Революционного совета и премьер-министра ДРА Хафизуллы Амина
Х. Амин родился в 1927 году в семье служащего (место рождения — н.п. Пагман в окрестностях Кабула). По происхождению пуштун из племени харатаев. В раннем детстве потерял отца. Воспитывался старшим братом, который учительствовал в школе, а впоследствии работал секретарём президента крупной хлопковой компании. Окончил высшее педагогическое училище и научный факультет Кабульского университета. Работал преподавателем, заместителем директора и директором кабульского лицея «Ибн Сина».
В 1957 году для продолжения образования выехал в США, где получил учёную степень магистра. По возвращении в Афганистан преподавал в Кабульском университете, работал директором лицея и высшего педагогического училища, состоял на государственной службе в министерстве просвещения. В 1962 году вновь выехал в США для подготовки к защите докторской диссертации. Здесь он избирается председателем федерации афганских студентов и создаёт организацию прогрессивных афганских студентов (г. Нью-Йорк). За участие в политической деятельности был выслан из США.
В 1965 году становится участником учредительного съезда НДПА. После раскола НДПА входит в число ближайших соратников Н.М. Тараки, по рекомендации которого был введён в состав ЦК НДПА «Хальк» (1967 г.). В 1969 году был избран депутатом нижней палаты парламента Афганистана, где проводил резко антимонархическую линию. После свержения королевского режима в 1973 году и прихода к власти М. Дауда полностью переключился на ведение организационно-партийной работы. В 1977 году был избран членом объединённого ЦК НДПА и руководителем халькистской военной организации, действовавшей параллельно с парчамистской организацией в армии.
После ареста лидеров НДПА в апреле 1978 года возглавлял непосредственную подготовку к вооружённому восстанию по свержению режима М. Дауда. После победы Саурской (Апрельской) революции (военного переворота) был назначен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел ДРА, избран членом политбюро ЦК НДПА и секретарём ЦК партии. В последующем Х. Амин фактически принял на себя руководство министерством обороны, установил контроль над органами государственной безопасности, сосредоточив в своих руках практически всю работу по организационно-партийному (кадровому) и государственному строительству.
Оставив за «другом и учителем» Н.М. Тараки роль «свадебного генерала», к лету 1979 года Х. Амин реально стал главным действующим лицом в НДПА и ДРА. К тому времени большинство особо значимых и весомых в партийной и государственной иерархии должностей было закреплено за его родственниками и лично преданными людьми.
14–15 сентября 1979 года осуществил государственный переворот в Афганистане. Принял на себя полномочия генерального секретаря ЦК НДПА, председателя Революционного Совета и премьер-министра ДРА. Бывший обладатель этих «титулов» Нур Мохаммад Тараки по приказу Х. Амина был задушен, а его семья помещена в тюрьму Пули-Чархи. Повинен в массовых репрессиях, организованных им в ДРА. Убит в ходе штурма советским спецназом дворца Тадж-Бек 27 декабря 1979 года.
Со временем в состав вновь «объединившейся» Народно-демократической партии Афганистана вошла ещё одна общественно-политическая (тайная и прежде самостоятельная) организация левой ориентации. Речь идёт об «Объединённом фронте коммунистов Афганистана» (ОФКА), который был создан непосредственно в структурах армии (1974 г) при деятельном участии и руководстве просоветски настроенного полковника ВВС и ПВО ДРА А. Кадыра, отличившегося ранее при отстранении от власти короля Захир Шаха.
Для руководства и членов ОФКА побудительным мотивом для такого решения стала надежда на то, что после объединения фракций НДПА в Афганистане будет создан совместный и сильный левый блок. Тем более что ОФКА был близок с народно-демократической партией по идейной платформе, хотя при определении форм и методов своей практической деятельности ставку делал исключительно на подготовку и проведение военного переворота в Афганистане. Удовлетворив просьбу руководства «объединённого фронта» о слиянии с партийными структурами, поднаторевшие в междоусобных баталиях лидеры НДПА навязали своим новым товарищам крайне невыгодные условия для этого объединения.
6. Саурская революция или военный переворот?
После того как глава государства М. Дауд решил поставить вождей народно-демократической партии немного «в рамки», законодательно воспретил создание и деятельность политических организаций в армии, руководство НДПА взяло курс на отстранение от власти «первого президента Республики Афганистан». Впоследствии победившей стороной очень много говорилось о массовых репрессиях со стороны правительства Мохаммада Дауда, которые якобы осуществлялись над членами НДПА, «прогрессивно ориентированными» военными, и о других кровавых преступлениях диктатора. Но по большей части подобного рода заявления были всего-то политической риторикой, в которой сторонники Н.М. Тараки и Б. Кармаля к тому времени изрядно усовершенствовались. В значительной мере таковыми в период правления М. Дауда были и игры членов НДПА в «подпольщиков», «конспираторов» и «нелегалов».
Но давайте вспомним, что перед «парчамистами» и «халькистами» был удачный практический опыт свержения в стране монархии, немалое число членов партии, прежде всего, из состава «Парчам», были активными участниками тех событий. При этом большинство из них полагало себя несправедливо обойдёнными после свершения успешного военного переворота 1973 года. Очевидно, в ту пору именно чувство обиды лежало в основе многих поступков вождей и рядовых членов НДПА, решивших составить новый государственный заговор.
Что касается желания ускорить социально-экономическое развитие Афганистана, решить накопившиеся в обществе проблемы, вывести страну из «тьмы феодализма», «догнать и перегнать», обеспечить народу «светлое будущее», то они также имели место. Отрицать это было бы не совсем правильно, хотя при этом давно известно, куда ведёт дорога, устланная благими намерениями.
Идею отстранения от власти М. Дауда руководители Народно-демократической партии Афганистана постепенно стали осуществлять. Памятуя о позиции ЦК КПСС, пытавшегося примирить «халькистов» и «парчамистов» между собой и с правящим режимом, информировать Старую площадь о новом курсе НДПА особо не спешили. В этой связи у нас есть серьёзные основания полагать, что в случае предупреждения Москвы об избранном НДПА курсе на военный переворот («революцию»), оттуда незамедлительно последовала бы отрицательная реакция.
Почему? Дело в том, что всё-таки «первый президент республики» М. Дауд по большому счёту вполне устраивал Кремль. А постоянно враждующие между собой афганские «коммунисты», каковыми объявляли себя «халькисты» и «парчамисты», доставляли ему достаточно хлопот и опасений. При этом было вполне очевидно, что Мохаммад Дауд, именовавшийся, как мы ранее отмечали, западной прессой «красным принцем», в действительности никакого отношения ни к социализму, ни к коммунизму не имел. Это понимали все здравомыслящие политики.
Поэтому в своё время мало кто решился обвинить «руку Москвы» в свержении монархического режима Захир Шаха, а также в развитии традиционно добрососедских отношений Советского Союза с Афганистаном и оказании военно-технической помощи независимому государству. В этой связи «красный» Афганистан, несомненно, становился бы для СССР дополнительной «головной болью» и весьма ощутимой статьёй финансовых расходов. Что, собственно говоря, на деле в дальнейшем и получилось.
Уже после осуществления очередного государственного переворота, то есть Саурской (Апрельской) революции 1978 года, в Москве признают, что информация о «революционных» планах афганских «левых сил» для многих в руководстве Советского Союза была неожиданной. Кабульские представители КГБ, МИД и ГРУ Генерального штаба ВС СССР по этому поводу впоследствии также «разведут руками».
Но при всей кажущейся спонтанности событий апреля 1978 года главной причиной того, что сотрудники Комитета госбезопасности, осуществлявшие непосредственную связь с лидерами НДПА, «проспали революцию» было именно сокрытие самим руководством афганских «левых сил» от «советских товарищей» своих истинных политических планов.
По ряду свидетельств, заслуживающих доверия, первоначально осуществление государственного переворота в стране планировалось на вторую половину (август) 1978 года. Это не обязательно должна была быть «всеобщая» революция или военный мятеж. По этому поводу, например, Бабрак Кар-маль вынашивал планы «всенародной стачки». Впрочем, в действительности судьба распорядилась по своему усмотрению.
Что же касается всякого рода легенд и мифов, порождённых и связанных с событиями так называемой Саурской (Апрельской) революции 1978 года, то их со временем появилось не меньше, чем в сравнении с другими аналогичными событиями мировой истории. Например, с Великой Октябрьской социалистической революцией (военным переворотом) 1917 года в России, оценка которой (которого) до сих пор является предметом не столько научных дискуссий, сколько предметом ярых политических баталий.
Разумеется, мифологизация кабульского апреля 1978 года изначально проистекала от заинтересованных сторон, одной из которых, несомненно, была Народно-демократическая партия Афганистана. Однако это нисколько не мешает нам рассмотреть точку зрения её руководства. Итак, перед нами документ, отражающий официальные воззрения НДПА на те события апреля 1978 года, которые здесь впоследствии стали именовать… «Великой Саурской социалистической революцией». Датируется он концом 1988 года. Читаем…
Информация для размышления
Краткая справка
о победоносном ходе Саурской (Апрельской) революции
В сауре 1357 года (апреле 1978 г.) в результате террористического акта, совершённого реакцией и империализмом, погиб член ЦК НДПА товарищ Мир Акбар Хайбар. На его похоронах собралось четыре тысячи человек — членов партии и сочувствующих. Над могилой погибшего выступали, осуждая это злодеяние реакции, члены партийного руководства и ныне покойный генеральный секретарь ЦК НДПА тех лет Нур Мохаммад Тараки.
Узнав о манифестации и о росте влияния партии в вооружённых силах, тогдашний правитель страны сардар Мохаммад Дауд испугался и предпринял попытку разгромить руководство НДПА. Члены руководства и сам Н.М. Тараки были брошены в тюрьму, о чём объявили средства массовой информации. Поскольку все члены партии, особенно её представители в вооружённых силах, ранее были предупреждены о том, что реакция может начать наступление на руководство партии, эта информация стала сигналом к тому, что НДПА должна определить свою судьбу.
Именно поэтому 26 апреля нескольким членам центрального комитета, отвечавшим за вооружённые силы и ещё не брошенным в тюрьму, был дан приказ о подготовке революции и указания о проведении в шесть часов 7 саура 1357 года (27 апреля 1978 г.) в городском зоопарке заседания штаба руководства вооружёнными силами.
7 саура (27 апреля) в шесть часов утра в окрестностях зоопарка состоялось заседание с участием товарища Саида Мохаммада Гулябзоя (ответственного за ВВС и ПВО), товарища Асадуллы Пайяма (ответственного за 4-ю танковую бригаду), товарища Алиша Паймаана (ответственного за зенитно-ракетную бригаду), товарища Мохаммада Дуста (ответственного за 32-й полк «коммандос»).
На этом заседании было принято решение, чтобы к восьми часам утра все товарищи были в своих частях в полной готовности координировать действия частей ВВС, ПВО и сухопутных войск. Был назначен пароль «Саид Мохаммад».
В 4-й танковой бригаде тогда служили, нынешний министр транспорта товарищ Ширджан Маздурьян — командиром батальона; ныне министр обороны товарищ Рафи — начальником штаба бригады; товарищ Мохаммад Аслам Ватанджар — командиром первого батальона. В семь часов утра товарищ Ширджан Маздурьян и товарищ Ватанджар решили привести в боевую готовность танки и спешно выдвинуть их в направлении на город Кабул. Товарищ Рафи остался в бригаде, на месте подавил сопротивление отдельных военнослужащих, мешавших проведению необходимых мероприятий.
Около одиннадцати часов утра танки двинулись на город Кабул в таком порядке: первый танк товарища Фатеха (ныне начальник штаба погранвойск), второй танк товарища Юнуса (ныне преподаватель кафедры), третий танк товарища Бари-дада (заместитель начальника управления кадров и личного состава МВД), четвёртый танк товарища Мохаммада Аслама Ватанджара, пятый товарища Маздурьяна.
Экипажам танков были поставлены такие задачи: товарищ Фатех — стать на площади Пуштунистан, чтобы с одной стороны обстреливать гвардию Дауда в Калайи-Джанги, а с другой — контролировать банк и почтамт. Товарищ Ватанджар имел задачу выйти на площадь перед зданием министерства обороны (сейчас — резиденция ЦК НДПА). Товарищ Маздурьян имел задачу держать под наблюдением личные квартиры Мохаммада Дауда, его брата сардара Мохаммада Наима, посольств Франции и Турции. В то же время все имели задачу окружить гвардию и держать между собой тесную связь.
Фатех с южного направления, то есть с площади Пушту-нистана, а Маздурьян с западного направления открыли огонь по гвардии, по дому сардара Мохаммада Дауда, дому сардара Мохаммада Наима и перешли в атаку. Ватанджар открыл огонь по зданию министерства обороны. В ВВС и ПВО в соответствии с планом, выработанным ранее, лётные экипажи на аэродромах Кабул и Баграм ждали указаний о вылете.
Товарищи, которые действовали в ВВС и ПВО, вскрыли оружейные арсеналы и атаковали штаб. Этими товарищами были полковник Хамза (ныне начальник авиационного гарнизона Кабул), генерал Абдул Кадыр (ныне посол в Польше), генерал-полковник Назар Мохаммад (ныне первый заместитель председателя совета министров), лётчики: полковник Мохаммад Наим Эджмаль (ныне заместитель начальника отдела ЦК НДПА по укреплению и расширению органов власти) и товарищ Асеф (ныне командир вертолётного полка).
В авиационном гарнизоне Баграм генерал-майор Мохаммад Хашем (ныне прокурор вооружённых сил) был главным полномочным представителем партии в Баграме. Полковник Мир Гаусэтдин (ныне военный атташе в Польше) совершил 16 боевых вылетов против гвардии и дворца Дауда. Героически вылетали полковник Абдул Латиф Лаканваль (в настоящее время начальник управления снабжения МВД), Мухтарэтдин (заместитель командира авиаполка в Баграме), Юнус, погибший в бою, генерал-майор Абдул Кадыр (ныне главнокомандующий ВВС и ПВО) — все они сыграли важнейшую роль в организации деятельности гарнизона.
После захвата власти партией внутри неё проявились различные противоречия, однако, в конце концов, было принято решение о том, чтобы от военных выступили по радио один пуштун и один таджик.
Очевидно, представленный вашему вниманию документ следует полагать «идеологически выверенным», соответствующим официальной точке зрения руководства НДПА. Подобно тому, как в советской истории, рассказывающей о событиях октября 1917 года, также были «уточнены» формулировки, добавлена псевдореволюционная риторика, а из общего контекста повествования исключены «нежелательные» факты и имена.
Однако давайте рассмотрим ещё один афганский (НДПА. — Примеч. В.К.) источник, который содержит в себе как бы личностное восприятие событий, произошедших в Кабуле в апреле 1978 года. При этом нам хочется оставаться убеждёнными в том, что их автор нисколько не старался слукавить или солгать. Быть может, что-то приукрасить, о чём-то умолчать, где-то самому по возможности оправдаться …
Информация к размышлению
Из воспоминаний члена Политбюро ЦК НДПА и министра товарища М.А. Ватанджара
Оглядываясь назад на 240-летнюю историю Афганистана, мы ясно видим самую яркую страницу в жизни страны, незабываемый день 7 саура 1357 года (27 апреля 1978 г.), день нашей святой Революции, которая принесла освобождение всем трудящимся массам от векового угнетения и бесправия, открыла им дорогу прогресса и процветания. Этот день навсегда останется в нашей памяти…
День Саурской революции стал самым значительным в моей жизни. Я получил от партии ответственное задание — объявить в девять часов утра в штабе 4-й танковой бригады в Пули-Чархи решение НДПА о начале революционного выступления. Оно было принято накануне.
Танковая бригада вскоре оказалась в руках патриотов. Около одиннадцати часов я на своём танке возглавил ударный отряд, двинувшийся из Пули-Чархи в город, и в полдень мы уже вступили в бой с подразделениями, охранявшими президентский дворец. Первый выстрел был произведён из танка № 815 около двенадцати часов. Наши неоднократные предложения прекратить огонь и капитулировать оставались без ответа, и защищавшие дворец продолжали бессмысленное сопротивление.
Но это было только начало восстания. Его успех зависел от энергичных, умных и скоординированных действий революционеров, от поддержки масс, от правильности выбранного партией политического курса.
Ожесточённая борьба разгорелась в разных частях города и его окрестностях. На дороге в Хаджа Раваше, где находился штаб ВВС, сложилась тяжёлая обстановка, однако прибывшие туда танкисты быстро взяли инициативу в свои руки.
…Большую роль в первые дни восстания также сыграли военно-воздушные силы. С помощью преданных партии лётчиков была проведена операция по захвату аэродрома в Баграме. Вскоре в воздух поднялись боевые самолёты, которые около шестнадцати часов нанесли бомбовый удар по президентскому дворцу.
В самом городе контрреволюционеры окопались в министерстве внутренних дел, муниципалитете и полицейском управлении. С помощью танков и бронетранспортёров наши товарищи атаковали противника и заняли эти здания.
К рассвету следующего дня танкисты, лётчики и часть «коммандос» Бала-Хисара сломили сопротивление охраны президентского дворца и вынудили её сложить оружие. К Мохаммаду Дауду под белым флагом была отправлена делегация с предложением капитулировать, но свергнутый президент отказался сдаться, открыл стрельбу по офицеру-парламентёру и ранил его. Завязалась перестрелка, в результате которой М. Дауд, а также некоторые его приближённые и сторонники были убиты. Так окончил свою жизнь человек, обманом захвативший власть в июле 1973 года.
Теперь давайте сделаем некоторые комментарии и уточнения в связи приведёнными ранее документами. Несомненно, катализатором осуществления государственного переворота (революции) 1978 года в Кабуле стало убийство 17 апреля члена центрального комитета народно-демократической партии и ведущего идеолога «Парчам» Мир Акбар Хайбара. В НДПА он был принят ещё во времена правления короля Захир Шаха, несмотря на то, что являлся видным государственным чиновником и начальником Кабульской полицейской академии. Хотя вступление на политическое поприще М.А. Хайбара, бывшего по своим убеждениям либералом, антимонархистом и бунтарём, произошло раньше, когда в 1960 году он совместно с Б. Кармалем выступил инициатором создания подпольного кружка левого толка.
До сих пор относительно убийства М.А. Хайбара «реакцией и империализмом» («террористами») существует несколько взаимоисключающих версий. Одна из них приведена в процитированном официальном источнике НДПА. Здесь только следует добавить, что для возбуждения антиправительственных настроений и массовых выступлений против президента М. Дауда «халькисты» и «парчамисты» широко использовали различные слухи. Так, ими распространялось утверждение, что это якобы политическое убийство осуществлено по личному приказу министра внутренних дел Абдул Кадыра Нуристани. Таким образом, похороны М.А. Хайбара руководству НДПА удалось превратить в массовую антиправительственную демонстрацию, которая была разогнана полицией по приказу М. Дауда.
Другую (противоположную) точку зрения на эти события, которая, по нашему мнению, вполне заслуживает внимания, привёл в своей книге «Трагедия и доблесть Афгана» генерал-майор А.А. Ляховский. В этой связи автор в 1995 году утверждал буквально следующее: «Однако существует другая версия, согласно которой М. Хайбара убили С.Д. Тарун и братья Алемьяр по распоряжению Х. Амина, так как в руках М. Хайбара (со стороны «Парчам») находились все нити руководства работой НДПА в армии, а Х. Амин являлся как бы его заместителем в этой деятельности. Стремясь захватить лидерство, он и предпринял шаги по устранению конкурента.
Впоследствии один из братьев Алемьяр (Ареф) был репрессирован, а другой занимал пост министра планирования в правительстве Х. Амина. Таким образом, согласно этой версии, именно Х. Амин своими действиями создал условия для свержения М. Дауда, а если предположить, что Х. Амин действительно сотрудничал с ЦРУ и действовал по его указанию, то становится очевидным, кто на самом деле явился организатором военного переворота в Афганистане, а в последующем провёл стратегическую операцию по втягиванию Советского Союза в региональный конфликт на Среднем Востоке. Но это лишь версия»[69].
Последняя оговорка свидетельствует о том, что и сам А.А. Ляховский сомневался в истинности приведённой им гипотезы. Тем не менее подобная точка зрения, как говорится, имеет место быть. Однако, по нашему мнению, она выглядит слишком упрощённо и слишком выгодно для определённой части исследователей.
Что же касается роли Хафизуллы Амина в последовавших за этим событиях, то её действительно можно было бы в значительной мере сравнить с ролью Л.Д. Троцкого (Бронштейна) в ходе российской революции 1917 года. И это относится не только к исполнению ими организаторских функций в ходе этих двух широко известных революций-переворотов. Но и к тому, что со временем эти два крупных менеджера революционных потрясений были исключены из официальных хроник событий, отредактированных под углом зрения ставших у власти новых партийных вождей.
После похорон М.А. Хайбара президент Мохаммад Дауд осуществил ряд репрессий в отношении организаторов антиправительственных демонстраций. В этой связи утверждение о том, что к принятию данного рода мер М. Дауда стимулировал посол США Д. Элиот в ходе закрытой встречи в штабе центрального корпуса (Кабульского военного округа), состоявшейся 24 апреля 1978 года, выглядит вполне логичным. Вполне объяснимым представляется и то, что выступления афганских «левых сил» М. Дауд мог воспринять, как вмешательство Москвы во внутренние дела суверенного государства, хотя на самом деле такового не было.
В ночь с 25-го на 26 апреля по приказу М. Дауда кабульской полицией были арестованы многие руководители НДПА, в том числе Н.М. Тараки и Б. Кармаль. Однако Х. Амин, у которого этой ночью полицией производился обыск, был оставлен под домашним арестом, и за его домом стало осуществляться наблюдение. Это странное обстоятельство до сих пор вызывает вполне естественные сомнения и разного рода предположения у многих авторов, пишущих по афганской политической проблематике. При этом значительная часть из них пытается сделать хотя бы намёк на то, что не препровождение Х. Амина в тюрьму было тогда не случайным и в той или иной степени связано с ЦРУ.
Действительно, предположение о том, что старые американские «контактёры» Хафизуллы Амина решили как-то использовать его в данной ситуации, выглядит вполне допустимым. Но не хотели же они использовать Х. Амина для организации халькистского государственного переворота («социалистической революции») в Кабуле. Впрочем, история Афганистана (точнее, развития англо-афганских отношений) свидетельствует, что подобного рода комбинации ранее осуществлялись. Примером чего может служить свержение с престола в 1929 году афганского эмира Аманну-лы-хана в результате мятежа, в значительной мере инспирированного британцами. И предоставленные английским посольством самолёты для спасения коронованного «на три дня» его младшего брата Инаятуллы-хана. Для чего им даже пришлось несколько придержать пыл афганцев, восставших под предводительством Бача Саккау.
Тогда же, в апреле 1978 года, той небольшой отсрочки от препровождения в тюрьму Х. Амину вполне хватило для того, чтобы через служащего кабульского муниципалитета Ф.М. Фахира и младшего офицера ВВС С.М. Гулябзоя передать оставшимся на свободе членам военной организации «Хальк» приказ о вооружённом восстании. Очевидно, план действий «халькистов» на этот случай был подготовлен заранее, и Хафизулле Амину оставалось только определиться с указанием точного времени начала переворота. Самого же его вечером 26 апреля полицейские власти доставили в тюрьму.
В тот же день, но несколько ранее, по приказу министра национальной обороны Афганистана М.Х. Расули в воинских частях проходило празднование «по случаю победы над коммунистами». Конечно, М. Дауд и его сторонники явно поспешили с торжественными ужинами и увеселительными мероприятиями, чем «халькисты» не преминули воспользоваться для подготовки к вооружённому выступлению.
Утром 27 апреля состоялось заседание военно-революционного штаба НДПА для координации действий частей сухопутных войск, ВВС и ПВО. Об этом сообщалось в ранее процитированных нами официальных документах НДПА. Но в них было упущено то существенное обстоятельство, что на самом деле здесь, в районе кабульского зоопарка, собрались именно «халькисты».
А «парчамистов» на заседание военно-революционного штаба НДПА просто-напросто не приглашали. Другая деталь, опущенная в официальном документе 1987 года, это существование для установленного халькистами «революционного пароля» («Саид Мохаммад». — Примеч. В.К.) весьма, так сказать, символичного отзыва — «Миг-21»…
Очевидно, непосредственные организаторы военного переворота в Афганистане хотели тем самым показать причастность к нему Советского Союза. Должно быть, этим они хотели убедить самих себя и сотоварищей в том, что действуют в соответствии с пожеланиями Москвы. Вряд ли зачем-либо другим нужно было указывать в «революционном» пароле-отзыве марку самолёта-истребителя иностранного производства, то есть «Миг-21», что в принципе выглядело не очень-то патриотично.
Позволим здесь же провести и такую параллель — если и сегодня в некоторых эскадрильях американских ВВС лётчики носят на своих мундирах шевроны с надписью «Убийца МИГОВ», то они четко себе представляют: как, зачем и почему название этих моделей советских самолётов отразилось в их военной символике. Поэтому нам становится более очевидным и смысл вполне схожих действий «халькистских» заговорщиков в апреле 1978 года.
Живописуя «революционные» события, произошедшие в 4-й танковой бригаде, источники НДПА также сознательно упускают ряд существенных подробностей. И прежде всего то обстоятельство, что вывод из пункта постоянной дислокации танков этого соединения и получение боеприпасов стало возможным только путём обмана командира бригады майором Мохаммадом Асламом Ватанджаром.
Как активный сподвижник М. Дауда по предшествовавшему военному перевороту он «убедил» комбрига в необходимости отправки его батальона к президентскому дворцу в Кабуле для оказания помощи… правящему режиму. Действуя, как заправский мошенник, М.А. Ватанджар к скромной цифре, указанной в накладной на получение снарядов, приписал «ноль» и получил таким способом требуемые боеприпасы.
Кроме этого в официальной версии НДПА сознательно упущены имена некоторых офицеров, активных участников событий апреля 1978 года, упоминать о которых в 1987 году было уже как-то неловко. Речь идёт прежде всего о таком деятельном сподвижнике М.А. Ватанджара из числа военнослужащих 4-й танковой бригады, как С.Д. Тарун. Это становится легко объяснимым, если знать дальнейшую карьеру этого офицера, ставшего после апреля 1978 года личным адъютантом председателя Революционного совета и премьер-министра ДРА Н.М. Тараки. Забегая несколько вперёд, заметим, что С.Д. Тарун сыграет во время другого (сентябрьского 1979 года) государственного переворота в Кабуле, в ходе которого Н.М. Тараки будет отстранён от власти, весьма примечательную, хотя до сегодняшнего дня не совсем чётко прояснённую роль.
Но о значении этой роли можно будет судить хотя бы по тому факту, что «благодарный» Хафизулла Амин тут же переименует один из крупных провинциально-административных центров Афганистана (город Джелалабад) в Тарун. Правда, это новое название надолго не приживётся и просуществует всего немногим более трёх месяцев. После нового государственного переворота в Афганистане, осуществлённого советскими спецслужбами совместно с некоторыми представителя внутренней оппозиции в Кабуле 27 декабря 1979 года, прежнее название городу и провинции будет возвращено. Но факт остаётся фактом.
Относительно гибели президента Мохаммада Дауда также существует ещё одна точка зрения, несколько отличная от официальной версии произошедшего. Она состоит в том, что, когда вечером 27 апреля группа «коммандос» под командованием старшего лейтенанта Имануддина ворвалась в апартаменты главы государства, возникла перестрелка. Её начал сам М. Дауд, узнав о роли в перевороте его бывших сподвижников из Народно-демократической партии Афганистана. В результате завязавшейся перестрелки был убит не только сам Мохаммад Дауд, но и все члены его семьи. Таким образом, дальнейшее сопротивление сил охраны президента и его дворца потеряло всякий смысл. К утру 28 апреля оно было полностью прекращено. При этом нельзя исключить и такого предположения, что изначально «революционным» афганским «спецназовцам» ставилась задача — в плен М. Дауда не брать.
В своих воспоминаниях о событиях военного переворота 1978 года М.А. Ваданджар только вскользь упоминает о смерти этого человека, который «обманом захватил власть в июле 1973 года». Министр Ватанджар здесь, с одной стороны, как бы оправдывает убийство «первого президента республики» незаконностью прихода его к власти в ходе свержения монархического режима Захир Шаха. А с другой стороны, «забывает» упомянуть о своём активном личном участии в этом захвате власти на стороне того же Мохаммада Дауда. Собственно говоря, за что М.А. Ватан-джар и был произведён досрочно в старшие капитаны с назначением на должность командира батальона 4-й танковой бригады.
В основном так схематично можно представить события, произошедшие в афганской столице в апреле 1978 года.
7. «Революция пожирает своих детей…»
После этого военного переворота, торжественно провозглашённого революцией, Афганистан был объявлен демократической республикой, главой государства стал генеральный секретарь ЦК НДПА Н.М. Тараки, его заместителями — Хафизулла Амин и Бабрак Кармаль. Практически сразу после захвата власти в стране с новой силой обострились противоречия в партии, объектом гонений были избраны «парчамисты», которых сначала отстранили от власти, а в последующем начали репрессировать.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что реальные основания для этого дали сами сторонники Б. Кармаля, посчитавшие себя обойдёнными при дележе министерских портфелей. При этом самого Бабрака Кар-маля явно не устраивало положение «второго лица» в партии и государстве. Тем более что на третьестепенное место его уже начал понемногу отставлять энергичный и нахрапистый «халькист» Хафизулла Амин, бывший правой рукой председателя Революционного совета и премьер-министра ДРА Нур Мохаммада Тараки.
Но «парчамисты» с удвоенной силой стали заниматься внутрипартийной борьбой, интригами и продвижением любыми способами «своих людей» на государственные должности, забыв, что на этот раз не они были главными творцами «афганской революции». И получилось то, чего и следовало ожидать. История, как говорится, повторялась.
Июнь 1978 года стал временем проведения очередного съезда фракции (партии) «Парчам» НДПА в Пагмане (по другим данным, в Кабуле), на котором были рассмотрены вопросы очередного захвата власти в Афганистане. Разумеется, информацию такого рода было трудно сохранить в тайне, что и стало известно «отцу народов Афганистана», как к тому времени стали полуофициально именовать Н.М. Тараки, а также его ближайшим сподвижникам.
На первых порах решили «сор из избы не выносить», постепенно отстранить «парчамистских» лидеров от реальной власти и отправить их за пределы страны в почётные дипломатические ссылки. Думается, что это было сделано не из чувства человеколюбия, а из осознания необходимости поддерживать добрые отношения с руководством КПСС и СССР, постоянно одёргивавших «афганских товарищей» от внутрипартийной грызни. А с таким союзником, как Советский Союз, приходилось считаться и Н.М. Тараки, и Х. Амину.
Уже к концу июня «халькистские» вожди, как говорится, «дожали» Бабрака Кармаля, который «добровольно принудительно» выехал из Афганистана в связи с назначением его на должность посла ДРА в Чехословакии (ЧССР). Также были вынуждены оставить страну и ряд других заметных функционеров «Парчам»: Нур Ахмад Нур оказался послом в США, Абдул Вакиль — в Великобритании, Мохаммад Барьялай — в Пакистане, Мохаммад Наджибулла — в Иране, а Анахита Ратебзад — в СФРЮ (Югославии).
Правда, покидая страну, Б. Кармаль обещал своим сподвижникам ещё вернуться в Афганистан с «красным флагом в руках». И (в этом надо отдать ему должное) свое слово, по большому счёту, сдержал, ведь в декабре 1979 года он вернулся в Кабул именно с «красным флагом», то есть на советских штыках.
За оставшимися в стране активными «парчамиста-ми» была установлена тотальная слежка, и уже к августу 1979 года был «обнаружен крупный заговор врагов партии и народа». Разумеется, врагами были «назначены» многие видные функционеры и члены «Парчам», деятельные участники афганских государственных переворотов. При этом даже говорить о какой-либо видимости законности в действиях вождей «Хальк» (НДПА и ДРА) не приходится. Повинные показания выбивались из арестованных при помощи электротока и других изощрённых пыток. Смертные и прочие приговоры выносились списками и без соблюдения элементарных правовых процедур цивилизованного судопроизводства.
В этой связи один из бывших руководителей представительства КГБ СССР в ДРА Леонид Богданов вспоминал: «Конечно, ситуация нас очень тревожила. Много раз мы ставили вопрос о том, что должны существовать хотя бы какие-то минимальные правовые нормы, что государство невозможно без прокуратуры. Хорошо, они назначили прокурора. Тот потребовал принести какое-то дело, Амин узнал об этом, и его тут же расстреляли»[70]. Тем не менее в случае с августовским 1979 года «заговором» (после неоднократных обращений руководства КПСС и СССР к Н.М. Тараки и Х. Амину) удалось спасти от приведения в исполнение смертных приговоров в отношении таких известных деятелей «Парчам», как С.М. Кештманд, А. Кадыр и М. Рафи. Смертную казнь им заменили на длительные сроки тюремного заключения.
В это время (с сентября 1978 года) к работе по осуществлению политического сыска в ДРА была привлечена новая афганская служба государственной безопасности (далее «АГСА». — Примеч. В.К.), созданная при поддержке КГБ при Совете Министров СССР. АГСА, которую возглавил бывший лётчик и активный участник «Саурской революции» майор Асадулло Сарвари, была образована вместо прежнего немногочисленного (10–12 человек) управления национальной безопасности (далее «УНБ». — Примеч. В.К.) ДРА. К началу 1979 года в результате партийных «чисток» в политбюро ЦК НДПА не осталось ни одного деятеля «Парчам».
В Революционном совете ДРА их было шестеро против тридцати «халькистов»; в совете министров ДРА — трое против четырнадцати членов «Хальк»; в ЦК НДПА — шестеро против тридцати «халькистов». Как показало время, на этом Н.М. Тараки, Х. Амин и их сподвижники не остановились. В свою очередь обращения Москвы к руководству НДПА и ДРА с призывами к единству в партии и коллегиальным принципам работы имели малое действие.
Таким образом, была обеспечена фактическая монополия «Хальк» на лидерство в Народно-демократической партии Афганистана и Демократической Республике Афганистан.
8. Демократическая Республика Афганистан накануне…
Однако не меньший, если не больший, террор был развязан «демократами» из НДПА против других слоёв собственного народа и в первую очередь в отношении зажиточных граждан, духовенства, бывших государственных служащих, кадровых офицеров армии и полицейских. В силу такой политики нового руководства страны в Афганистане стали множиться ряды вооружённой оппозиции, одно за другим стали происходить восстания. Объектами нападений мятежников нередко избирались шурави, то есть советские, бывшие в ДРА в качестве военных и гражданских советников и специалистов.
Впрочем, не только они: 14 февраля 1979 года в Кабуле группировкой маоистского толка «Национальный гнёт» был захвачен в качестве заложника посол США в Афганистане Адольф Даббс. Террористы выдвинули перед правительством ДРА предложения об освобождении американского посла в обмен на выход из тюрьмы арестованных прежде трёх своих товарищей. Руководство Афганистана отказалось принять требования боевиков, хотя к лидерам НДПА и ДРА с настоятельными ходатайствами о недопустимости активных действий обращались советская и американская стороны.
По распоряжению Х. Амина, курировавшего в то время силовые структуры, был начат штурм гостиницы «Кабул», в которой укрылись с террористы с заложником. Закончилась эта акция уничтожением боевиков и смертельным ранением, полученным А. Даббсом. Убийство американского посла стало формальным поводом для резкого свёртывания помощи со стороны США режиму Н.М. Тараки, а также отзыва из ДРА большинства американских дипломатов, сотрудников и специалистов. Таким образом, новый глава Афганистана (в отличие от М. Дауда) уже не мог пользоваться «американским табаком». А по поводу «спичек» Нур Мохаммаду Тараки теперь приходилось обращаться только к Советскому Союзу.
15 марта в Герате вспыхнул антиправительственный мятеж, активное участие в котором приняло не только население провинциального центра, но и военнослужащие местного гарнизона. В конечном итоге правительственным войскам удалось подавить этот мятеж. Делалось это путём нанесения афганской авиацией многочисленных бомбоштурмовых ударов по городу и подключением к этим «мероприятиям» элитных частей коммандос.
По некоторым сведениям, всего в ходе данных событий погибло около тысячи человек. Были жертвы и из числа советских граждан. В различных источниках имеются сведения о гибели двух советских советников, одним из которых, очевидно, был майор Н.Я. Бизюков, а также одного гражданского специалиста, заготовителя кож. Кстати сказать, в конце 2006 года на местном кладбище села Вершино-Рыбное Партизанского района Красноярского края был открыт мемориал Николая Бизюкова как первого советского военнослужащего, погибшего в Афганистане.
В своих мемуарных записках офицер госбезопасности В.Н. Курилов сделал такую запись: «У всех ещё свежо было на памяти то, что произошло весной этого года (1979 года — Примеч. В.К.) в Герате, когда местные маоисты взбунтовали жителей города и афганские воинские части. Была крупная пальба, солдаты перебили своих командиров и политработников. Тогда же погибло несколько наших специалистов и советников. Говорят, что их растерзали буквально по кусочкам (о, добрый, весёлый и трудолюбивый афганский народ!). Об этих событиях мне как-то рассказывал один военный советник, который был в Герате в то время. По его словам, от неминуемой и жуткой смерти многих наших специалистов тогда спасли какие-то специально обученные советские офицеры, которые перебили кучу повстанцев и на бронетехнике вывезли всех в гератский аэропорт. А там уж они держали оборону до подхода верных правительству частей. Потом уж кто-то рассказывал, что это было одно из первых боевых крещений за границей ребят из спецгруппы «А». Но я тогда вообще не знал о существовании такой группы. Это уже потом мы вместе с ними воевали на дворце Амина и крепко сдружились»[71].
В связи с процитированным отрывком из воспоминаний В.Н. Курилова заметим, что на сегодняшний день нет каких-либо конкретных сведений об участии бойцов Группы специального назначения КГБ СССР «А» в спасении советских советников и специалистов во время гератского мятежа 1979 года. Об этом ничего не пишет и М.Е. Болтунов в своей книге «Альфа» — сверхсекретный отряд КГБ». Однако известно, что приблизительно в этот период часть бойцов группы «А» действительно вылетала в Афганистан для проведения в посольстве СССР в ДРА ряда антитеррористических мероприятий. Это произошло после убийства американского посла Адольфа Даббса.
В связи с гератским вооружённым мятежом и угрозой его последующего распространения на другие регионы страны Н.М. Тараки обратился за военной помощью к СССР. Его настоятельная просьба, если не мольба, о вводе в ДРА советских воинских контингентов была тогда отвергнута руководством Советского Союза. Хотя министром обороны СССР маршалом Д.Ф. Устиновым давались поручения о подготовке различных вариантов «относительной военной акции». Однако разум и здоровый прагматизм в то время возобладал, хотя тогда, в марте 1979 года, решение о вводе советских войск в Афганистан было очень близко к его принятию.
С этого времени Н.М. Тараки и Х. Амин стали постоянно взывать к руководству СССР с запросами об оказании военной помощи, в том числе путём ввода различных контингентов войск на территорию ДРА. При этом лидеры Афганистана ссылались на четвёртую статью советско-афганского договора «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», подписанного сторонами 5 декабря 1978 года в Москве. Но на том этапе Советский Союз стремился ограничить своё участие в оказании военной помощи ДРА исключительно поставками вооружения и боевой техники, обучением афганских военных специалистов и направлением военных советников.
Дальнейшая внутриполитическая ситуация в стране стала развиваться стремительно и в угрожающем для режима НДПА плане. Заговоры и вооружённые мятежи в Афганистане происходили с поражающей частотой. Так уже 21 марта 1978 года был раскрыт новый «контрреволюционный заговор» в Джелалабадском гарнизоне. Тогда были арестованы порядка 230 военнослужащих, которых обвинили в организации контрреволюционного бунта.
Зачастую действительными инициаторами антиправительственных выступлений были афганские офицеры, которых новый режим лишил значительных прав и привилегий. Будучи, как правило, выходцами из зажиточных слоёв общества, они не могли смириться с изъятием у своих семей феодальных владений, иных имущественных прав и утратой своего положения в обществе. К тому же «на пятки» бывшим королевским и даудовским офицерам стали наступать новые командные кадры, получившие военное образование в СССР или на ускоренных курсах в Кабуле под руководством советских советников, преподавателей, специалистов и инструкторов.
Подбор курсантов в эти учебные заведения после апреля 1978 года стал осуществляться в основном по партийному и классовому признакам. К тому же с бывшими королевскими офицерами особо не церемонились, многие из них просто исчезали после вызовов в местные органы контрразведки, а другие постоянно ощущали на себе надвигающуюся угрозу быть схваченным, обвинённым в контрреволюционной деятельности и расстрелянным.
Как проходило подавление подобных выступлений, можно представить из мемуарных записок В.Н. Курилова, который в ту бытность был старшим лейтенантом госбезопасности и бойцом первого состава отряда КГБ СССР «Зенит» в Кабуле: «Недавно в одной воинской части в провинции Джелалабад был очередной мятеж, который, кстати, достаточно быстро подавили. Но сам факт по себе был достаточно неприятный. Сарвари (начальник афганской службы государственной безопасности. — Примеч. В.К.) лично прилетел туда для разбирательства.
Уцелевших мятежников в окружении конвоиров построили перед министром. Их было человек тридцать. Сарвари прошёл вдоль строя, вглядываясь в лица испуганных и ободранных солдат, что-то вполголоса коротко спрашивал. Следом за министром, чуть поодаль, следовали охрана и местное руководство. Там же был наш партийный советник и переводчик.
Вдруг Сарвари резко повернулся и выхватил из рук ближайшего к нему охранника автомат и клацнул затвором. Все шарахнулись в сторону.
Широко расставив ноги, Сарвари с бедра, веером, стал поливать из автомата мятежников. Когда кончились патроны, министр отбросил дымящийся автомат в сторону и, ни на кого не глядя, быстро пошёл к машине. Вслед за ним поспешила свита. Конвоиры, восприняв действия Сарвари как приказ, добили оставшихся в живых…»[72]
К этому трудно что-либо добавить. Впрочем, может, стоит напомнить, что перед нами описания «революционных» деяний Асадулло Сарвари, который во время военного переворота, осуществлённого Х. Амином в сентябре 1979 года, сумеет укрыться за стенами советского посольства в Кабуле. Тогда его и нескольких других оппозиционных министров «зенитовцам» удастся вывезти в Советский Союз. Личность А. Сарвари нас интересует и в связи с тем обстоятельством, что 27 декабря 1979 года он будет находиться на одной из боевых машин пехоты «мусульманского» батальона при осуществлении штурма дворца Тадж-Бек. Тогда его задачей станет приведение в исполнение «приговора» Хафизулле Амину. Правда, из бронированного чрева БМП советским спецназовцам с трудом удастся вытащить изрядно струхнувшего бывшего шефа АГСА. И то только после того, как Х. Амин уже будет мёртв.
И ещё один штрих к портрету бывшего военного лётчика и начальника афганской службы государственной безопасности Асадулло Сарвари. По свидетельству генерала КГБ СССР Леонида Богданова, до устранения от власти первого президента ДРА Нур Мохаммала Тараки А. Сарвари был определённое время в фаворе у Хафизуллы Амина, являвшегося куратором органов афганской госбезопасности. При этом Х. Амин ставил Сарвари в пример его подчинённым как человека, собственноручно застрелившего десять тысяч «врагов народа и революции». Так что будущий участник государственного переворота 27 декабря 1979 года Асадулло Сарвари был личностью, мягко говоря, весьма и весьма неоднозначной.
Одна из самодеятельных песней внештатного отряда спецназа КГБ СССР «Зенит», находившегося в это время в Афганистане, о чём пойдёт подробнее речь несколько далее, начиналась словами «Мы пошли на Грязный[73]». Скорее всего, это одно из первых сочинений из так называемого «базарного» фольклора. На мотив «Мурки» эта песня весьма достоверно сообщает об одном из кабульских мятежей того времени. В ней есть такие строки (Далее курсив. — В.К.):
«Мы пошли на Грязный закупать товары, -
Дело было в праздник Рамазан, —
Нас в авто с шофёром было только трое,
Каждый при себе имел наган.
Только разбрелись мы, стали приценяться,
Сколько стоит это, сколько — то,
Вдруг выстрелы раздались, пуштуны заметались, —
Вот тебе и пятое число.
Службой мусульмане недовольны стали,
Полк десантный начал бунтовать,
Но ведь они не знали, что мы сейчас на Грязном,
И нам товары надо покупать.
Ох, на грубость рвётесь, ох, у нас дождётесь!
Тоже мне мятежники нашлись…
А не хотите мирно, так будет с мордобоем, —
Так вы нас помнить будете всю жизнь.
Длился бой недолго, было много пленных,
Взяли их в казармы и «ура!».
Мы нежились в посольстве, а части Царандоя
Мятежников стреляли до утра…».
Автор указанной ранее книги «Ночь забытых песен» В. В. Пасько неправильно относит эту песню к первому году пребывания контингента советских войск в Афганистане. События, описанные в ней, на самом деле произошли 5 августа 1979 года. Дело в том, что «прозаическое» подтверждение, приведённых здесь фактов, мы обнаруживаем в ряде других источников.
Так, в частности, бывший военный советник полковник В.И. Аблазов в этот день сделал следующую запись в своём рабочем дневнике: «Мятеж… В ночь с 4-го на 5 августа раскрыт самый крупный заговор против правительства. Аресты заговорщиков начались в ночь с 03.08. на 04.08. По плану реализация заговора должна была начаться в 3.00 с 04.08. на 5.08. Но это не удалось, и начало перенесли на 12.45 5.08. (время начала обеда, когда советники уезжают из воинских частей). Во всех полках и дивизиях были подготовлены группы с задачей уничтожить командование. К каждому танку были приставлены люди, которые должны их захватить. План обороны Кабула был известен. Утечка информации из Генштаба (Министерства обороны)…
Однако общий сигнал не прошёл. Но 26-й полк «Коммандос», базирующийся в крепости Балахисар (или «Бала-Хисар». — Примеч. В.К.), выступил частью личного состава на стороне мятежников (один батальон и все подразделения связи). Командир полка и два батальона отказались от выступления. Командир полка ранен. В это время в полку находились шесть наших советников. Подавление мятежа проходило неорганизованно. Танкисты стреляли в воздух, а не по целям — уходящему в горы батальону, дали возможность мятежникам уйти. Била только авиация…»[74]
Далее в своём дневнике полковник В.И. Аблазов уточнил, что мятеж был организован «парчамистами», или «парчамовцами», что в ходе этого выступления оппозиции 47 человек были убиты, более 70 — ранены и 539 — арестованы.
Говоря о концовке данного вооружённого бунта, Валерий Курилов, в той или иной мере бывший свидетелем этих событий, в своих воспоминаниях заметил: «Некоторые мятежники разбежались, но большая часть возвратилась в крепость и попыталась занять круговую оборону. Однако деморализованные потерями и лишённые единого командования долго продержаться они не смогли. Уже к вечеру крепость Бала-Хисар была взята преданными Тараки элитными, хорошо вооружёнными подразделениями Царандоя (народной милиции). А всё остальное было делом техники. Царандоевцы подогнали бульдозеры, вырыли несколько рвов. Оставшихся в живых после штурма мятежников, разоружённых и ободранных, поставили вдоль насыпи и покрошили из пулемётов. Бульдозеры заровняли землю — и следа не осталось. Просто и сердито. К утру всё было кончено…»[75] Вот так, примерно, и жили тогда в «народно-демократическом» Афганистане…
9. Хафизулла Амин приходит к единоличной власти
Тем временем Хафизулла Амин, бывший заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ДРА, членом политбюро и секретарём ЦК НДПА, принял на себя реальное руководство над министерством обороны и органами госбезопасности, сосредоточил в своих руках всю кадровую работу. Оставив за Н.М. Тараки чисто представительские функции, к лету 1979 года Х. Амин фактически стал реальным руководителем НДПА и ДРА. К тому времени большинство особо значимых и весомых в партийной и государственной иерархии должностей было закреплено за родственниками и лично преданными Хафизулле Амину людьми. Это реальное положение в партийных и властных структурах НДПА и ДРА нуждалось только в формальном закреплении.
Очередной военный переворот в Кабуле был осуществлён 13–14 сентября 1979 года. Его результатом и стало «избрание» внеочередным пленумом Центрального Комитета Народно-демократической партии Афганистана товарища Хафизуллы Амина генеральным секретарём ЦК НДПА, председателем Революционного Совета и премьер-министром ДРА. Следствием объявленного тогда пленумом обновлённого ЦК НДПА «нового этапа Саурской (Апрельской) революции в ДРА» стало убийство 8 октября 1979 года офицерами афганской гвардии по прямому приказу Х. Амина его же «друга и учителя» Нур Мохаммада Тараки.
По поводу убийства первого премьер-министра ДРА Н.М. Тараки бывший воин-интернационалист, заслуженный журналист Украины[76] Анатолий Гончар в 1999 году заметил: «Политическая и личная близорукость Тараки стоила ему жизни. Он погиб весьма загадочно и был похоронен при очень странных обстоятельствах. Накануне заинтересованные лица упорно распускали слух, что он тяжело заболел неизлечимой болезнью и жить ему осталось мало. Не сегодня, так завтра — умрёт…»[77] И несколько далее: «Так ли всё происходило в действительности? Как именно? Кто был непосредственным исполнителем физического уничтожения Тараки? Вопросы. Предположения. Загадки. Их множество…»[78]
Однако, с нашей точки зрения, сегодня в этом вопросе имеется достаточная ясность. Здесь же подчеркнём, что наш особый интерес к данному кругу вопросов определён тем обстоятельством, что многие исследователи факт убийства Н.М. Тараки, совершённого по прямому указанию Х. Амина, соотносят с одним из основных мотивов принятия Политбюро ЦК КПСС решения о вводе советских войск в ДРА и физической ликвидации самого афганского диктатора.
Официально о смерти бывшего главы государства Н.М. Тараки в связи с «непродолжительной и тяжёлой болезнью» было объявлено только 10 октября. Однако даже в то время, когда первый премьер-министр ДРА был уже мёртв, Х. Амин ещё продолжал торговаться с Москвой по поводу отправки Н.М. Тараки на лечение в Советский Союз. Семья убитого главы Афганистана и его ближайшие сподвижники были отправлены новоявленным диктатором в тюрьму Пули-Чархи. Началась новая совершенно необузданная волна террора против афганского народа, которую вполне можно сравнить со сталинскими репрессиями.
Заметим, что в данном случае сравнение с террором и репрессиями, имевшими место в СССР не случайно. По свидетельствам некоторых очевидцев, Хафизулла Амин, у которого на столе красовался портрет «вождя всех времён и народов» генералиссимуса И.В. Сталина, лично утверждал смертные списки своих соотечественников, отправляемых на «выброску десанта». Так в ДРА именовалась казнь, когда виновных против нового режима или просто подозрительных лиц со связанными руками сажали в транспортный самолёт и на большой высоте сбрасывали над горными районами страны.
В этой связи приведём воспоминания генерал-майора КГБ СССР в отставке Леонида Богданова, представлявшего в тот период интересы своего ведомства в Афганистане. А он по этому поводу впоследствии вспоминал так: «Пытки, расстрелы были каждый день. Расстреливали списками, без суда и следствия — у них называлось это «отправить в Пакистан». За городом рыли специальные траншеи, чтобы хоронить тела, закапывали бульдозером… Уже после начальник контрразведки рассказывал мне, как его вызвал Амин. «Вы лично расстреляли всего 5 тысяч человек, а вот Сарва-ри, ваш начальник, уже десять тысяч. Это неправильно. Вы должны его нагнать»[79].
Напомним, что этот террор против собственного народа был начат ещё во время президентства Н.М. Тараки, и данное обстоятельство нисколько не обеляет его и не делает невинной жертвой борьбы за власть. А происходящее в Афганистане после сентябрьского 1979 года военного переворота вполне можно было бы назвать (по аналогии с репрессиями в СССР 1937–1938 годов) «второй волной террора». Или, говоря словами гильотинированного Конвентом во времена Великой французской революции Дантона: «Революция пожирает своих детей…» История, как известно, повторяется дважды… Трижды, четырежды…
У нас имеются сведения о том, что в первой половине декабря на Хафизуллу Амина было совершено очередное покушение. При этом его родственник Абдулла Амин, руководившей в то время службой афганской госбезопасности, был незначительно ранен. Эти события ещё более спровоцировали террор со стороны правящего режима в отношении «недовольных партийцев из оппозиционных фракций», а также сторонников бывшего главы государства Н.М. Тараки, им сочувствовавших, да и против всех неугодных.
Председатель Революционного совета и премьер-министр ДРА «товарищ» Х. Амин примерно тогда же сменил свою прежнюю резиденцию, располагавшуюся в центре столицы во дворце Арк («Дворец народов»), на казавшийся ему более безопасным дворец Тадж-Бек, который находился на окраине Кабула в районе проспекта Дар-уль-Аман. Тогда же Хафизулла Амин стал с ещё большей настойчивостью обращаться к советскому руководству с просьбами об обеспечении его личной охраной и по вопросу ввода войск СССР в Афганистан.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги:
Первое, советско-афганские межгосударственные отношения стали активно развиваться с 1919 года, после прихода к власти эмира Аманнуллы-хана, провозгласившего государственный суверенитет. Советская Россия была первым государством, признавшим независимость своего южного соседа и установившим с ним дипломатические отношения.
Второе, в 1920-е годы СССР неоднократно оказывал экономическую, военную и иную помощь правительству Афганистана, что в частности обусловливалось необходимостью подавления на территории среднеазиатских республик остатков белогвардейского и басмаческого движения.
Третье, во время Второй мировой войны Афганистан придерживался политики нейтралитета. В период холодной войны США и их партнёры стали осуществлять планы создания военного окружения против СССР, составной частью данной политики было втягивание Афганистана в зону американских интересов посредством оказания ему финансово-технической помощи.
Четвёртое, в 1950-е годы, когда США стали навязывать жёсткие политические условия в обмен за поставку вооружений афганской армии, правительство короля Захир Шаха постепенно стало переориентироваться в сторону Советского Союза. В дальнейшем между СССР и Афганистаном установились добрососедские отношения, сохранившиеся и после свержения в этой стране монархического режима.
Пятое, 1 января 1965 года была образована Народно-демократическая партия Афганистана, её генеральным секретарём ЦК партии стал Н.М. Тараки. Фактически сразу после учредительного съезда в партии произошёл раскол между двумя враждующими фракциями «Хальк» (лидер Н.М. Тараки) и «Парчам» (лидер Б. Кармаль). ЦК КПСС через агентурные и иные возможности КГБ СССР установил тесную связь с руководством НДПА.
Шестое, в апреле 1978 года в Афганистане произошла революция (военный переворот), в результате которой к власти в стране пришли лидеры НДПА. Афганистан был объявлен демократической республикой. Н.М. Тараки стал председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА, его также именовали президентом Афганистана. В ответ на непродуманные реформы в стране стало шириться оппозиционное движение, возникали вооружённые мятежи, на что руководство ДРА ответило репрессиями и террором.
Седьмое, в сентябре 1979 года заместитель Н.М. Тараки по партии и руководству ДРА Хафизулла Амин совершил государственный переворот, принял на себя все «титулы» своего предшественника и усилил террор в отношении недовольных партийцев, «контрреволюционеров» и «врагов народа». Н.М. Тараки по личному приказу Х. Амина был задушен офицерами его гвардии. Новый лидер ДРА продолжил настойчивые просьбы по вводу в Афганистан советских воинских формирований.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК