ГЛАВА 1. Скоблин и Плевицкая. Русская армия в Галлиполи. Первые гастроли Плевицкой. Отстранение Скоблина от Корниловского ударного полка
ГЛАВА 1.
Скоблин и Плевицкая. Русская армия в Галлиполи. Первые гастроли Плевицкой. Отстранение Скоблина от Корниловского ударного полка
Начинать историю контрразведки Русского общевоинского союза, больше известной как «Внутренняя линия», нужно с 1917 года. Переворот, а именно так и назвали Троцкий с Лениным свою революции, вверг страну в пучину Гражданской войны. Первыми поднялись на борьбу с III интернационалом Лавр Георгиевич Корнилов и четырех тысячная Добровольческая армия. Ее основа — Корниловский ударный полк. Одним из его командиров был штабс-капитан Николай Владимирович Скоблин, будущая легенда всего Белого движения и, пожалуй, самый известный чин «Внутренней линии». Скупые строчки биографии — «Участник Первой мировой войны. В 1914 году — прапорщик 126-го пехотного Рыльского полка. В 1917 году — штабс-капитан, вступил в 1-й ударный отряд. Командир роты, командир батальона…» — не способны передать значения Скоблина.
Молодой офицер запомнился многим еще до того, как Добровольческая армия отправилась в свой Ледяной поход. В конце января 1918 года, отступающие от Таганрога красные расстреляли бригаду железнодорожников. Живот одного из них был распорот саблей. В его рот были засунуты окровавленные гениталии. На обнаженной груди лежала фотография, на которой были изображены двое молодых людей в форме с надписью: «Нашему дорогому папе».
Как раз в этот момент прибыл вагон, который привез человек двадцать большевиков, взятых в плен на соседней станции. Вперед вышел один из юнкеров, как потом выяснилось, сын убитого железнодорожника. Прежде чем кто-нибудь успел его остановить, он разрядил свой карабин в толпу. Его разоружили, и он с рыданиями повалился на землю. Скоблин попытался успокоить безутешного юношу, которому едва исполнилось 18 лет: «Мы отомстим за твоего отца, можешь на меня положиться! Даю тебе слово чести!»
С Добровольческой армией Николай Владимирович был в двух Кубанских походах, наступал на Москву, эвакуировался из Крыма. Боевой офицер, он по приказу Врангеля был произведен в генералы. Бывший доброволец Димитрий Лехович писал спустя годы: «Небольшого роста, худой, хорошо сложенный, с правильными, даже красивыми чертами лица, с черными, коротко подстриженными усами, он производил бы вполне приятное впечатление, если бы не маленькая, но характерная подробность: Скоблин не смотрел в глаза своему собеседнику, взгляд его всегда скользил по сторонам. Человек большой личной храбрости, Скоблин имел военные заслуги и в то же время значительные недостатки. Он отличался холодной жестокостью в обращении с пленными и населением. «Но в суровые дни и однополчанам, и начальству приходилось прежде всего считаться с воинской смекалкой Скоблина, закрывая глаза на его недостатки».
Корниловцы, уже в эмиграции, вспоминали такой случай. Однажды их колонну из ста человек обогнал броневик Дроздовской дивизии. Вышедший из него офицер обратился к Скоблину с вопросом: «Где остальные ударники?» «Вот все, что осталось от полка», — печально бросил Николай Владимирович и тут же приказал своим офицерам готовиться к атаке. Уже тогда он пользовался таким непререкаемым авторитетом, что позволял себе выговаривать даже своему непосредственному начальнику, генералу Кутепову. Полковник Левитов в своих воспоминаниях «Корниловский ударный полк» привел весьма показательный пример:
«Полковник Скоблин поехал разыскивать штаб корпуса. По дороге он встретил молодого адъютанта, причисленного к Генеральному штабу. Капитан передал начальнику дивизии в конверте приказание командира Добровольческого корпуса. Скоблин пробежал приказ и весь побледнел. Выпустив трехэтажное ругательство, он набросился на капитана: «Как, приказ об отходе моей дивизии вы доставляете мне только сегодня? Почему вчера не доставили его мне? Из-за вашей трусости у меня убитых только 600 человек! Расстреливать таких офицеров!»
Скоблин помчался к Батайску. Штабной поезд медленно отходил. «Задержать поезд!» — закричал Скоблин. Поезд остановили. Вне себя он вскочил в вагон командира корпуса. «Николай Владимирович, — это ты? Слава Богу! Твоя дивизия цела?» Кутепов обнял Скоблина и поцеловал. Скоблин, возмущаясь, стал рассказывать ему, что перенесли корниловцы. «Ты потерял половину дивизии, а я почти весь свой корпус. Катастрофа. Поезжай — твоя задача защищать Батайск. Когда успокоишься, спокойно обо всем переговорим» Медленно, шагом поехал Скоблин к корниловцам».
Скоблину прощалось все. Офицер отчаянной храбрости, лично водил свой полк в атаку, он был ранен шесть раз. По устоявшейся в Добровольческой армии традиции, офицеры всегда шли впереди, поэтому и потери их превышали все допустимые нормы. К примеру, командир батальона Корниловской ударной дивизии Фукс после каждой атаки оказывался в лазарете. В результате, он был ранен 14 раз и лишился левой руки. Скоблин был одним из первых кавалеров ордена Святого Николая Чудотворца — высшей награды Русской армии генерала Врангеля. Корниловцы своего командира боготворили. Молодого генерала боялись и уважали враги, что говорит о многом. Разгром конного корпуса Жлобы, одна из самых страшных катастроф красных в Гражданской войне, произошел при самом активном участии несгибаемых ударников. Даже в день эвакуации войск Врангеля из Крыма Николай Владимирович был одним из тех, кто повел корниловцев в атаку. В последнюю атаку Белого движения на Юге России. Было в этом что-то символическое. Именно Скоблин вел офицерскую роту в самый первый бой Добровольческой армии в феврале 1918 года. О том, как это происходило, сохранилось свидетельство полковника Левитова: «Не прошли корниловцы и полторы версты от своих позиций, как услышали сзади себя сильнейшую стрельбу. Полк приостановился. Уже стало рассветать. Перед 3-м батальоном показались густые цепи. Разобрать, кто идет, — свои или красные, — было трудно. Под прикрытием бронепоезда «Георгий Победоносец» корниловцы двинулись навстречу. Только когда цепи сблизились шагов на двадцать, враги узнали друг друга. С той и другой стороны раздались залпы. «Георгий Победоносец» подкатил вплотную к красным и в упор стал их расстреливать изо всех своих орудий и пулеметов. Красные побежали, корниловцы за ними. Бронепоезд ускорил ход и разогнал подоспевшие резервы красных».
В Галлиполи Корниловская ударная дивизия была сведена в полк. Командовал им, как и раньше, Скоблин. В то время все чины Белых армий жили надеждой, что со дня надень генерал Врангель отдаст свой знаменитый приказ: «Орлы, задело! Кубанский поход продолжается!» О капитуляции никто не думал, все были готовы к новым сражениям с большевиками. Вот только Николай Владимирович постепенно отстранялся от борьбы до победы.
Нет, он не разочаровался в идеалах Белого движения. Все очень прозаично — 26-летний генерал влюбился до беспамятства. Собственно, случилось это еще в Крыму, но только на чужбине корниловцы обратили внимание, что теряют своего командира. Все его мысли занимала известная русская певица Надежда Пле- вицкая. «Курский соловей», как называл ее Николай II. И поскольку она сыграет в этой истории одну из главных ролей, необходимо рассказать о ней подробнее.
* * *
Надежда Васильевна Винникова родилась в 1884 году в деревне Винниково Курской области. Ее детство ничем не отличалось от детства сотен других деревенских детей. В своих воспоминаниях «Дежкин карагод», изданных в Берлине в 1925 году, она писала: «Семеро было нас: отец, мать, брат да четыре сестры. Всех детей у родителей было двенадцать, я родилась двенадцатой и последней, а осталось нас пятеро, прочие волей Божьей померли.
Жили мы дружно, и слово родителей для нас было законом. Если же, не дай Бог, кто «закон» осмелится обойти, то было и наказание: из кучи дров выбиралась отцом-матерью палка, потолще, со словами: «Отваляю по чем ни попало».
А вот и преступления наши: родители не разрешали долго загуливаться. «Чтобы засветло дома были», — наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что «хорошая слава в коробке лежит, а дурная но дорожке бежит».
Вот той славы, «что по дорожке бежит», мать и боялась. У моего отца было семь десятин пахоты. На семью в семь человек — это немного, но родители мои были хозяева крепкие, и при хорошем урожае и у нас были достатки. Бывало, зайдешь в амбар: закрома полные, пшено, крупы, на балках висят копченые гуси, окорока, в бочках солонина и сало. А в погребе — кадки капусты, огурцов, яблок, груш. Спокойна душа хозяйская, все тяжким трудом приобретено, зато благодать: зимой семья благоденствует. Мать усердно гоняла нас в лес: дикие яблоки для сушки возами свозились, мешками таскали орехи, которые припрятывались до Рождества. Было и у нас изобилие.
Отобедали и снова на улицу. Мать дала нам по десятку яиц, на пряники, но сказала, чтобы я погуляла немного да и вернулась; нужно гусей на речку согнать, а то в закутке они искричались. Как не хотелось с улицы идти, а вернулись домой, выпустили гусей из закутка и погнали под гору.
Под горой, не боясь, что нас кто увидит, стали мы с Машуткой плясать, подражая Татьяне и старшим сестрам. Я запела протяжную:
Дунай-речка, Дунай быстрая,
Бережечки сносит.
Размолоденький солдатик
Полковника просит:
— Отпусти меня, полковник,
Из полку до дому.
— Рад бы я, рад бы отпустить,
Да ты не скоро будешь,
Ты напьешься воды холодной,
Про службу забудешь…
Пела я и прислушивалась к своему голосу. Мне очень хотелось, чтобы походил он на Татьянин.
А с горы на плотину съезжал в ту пору экипаж, в котором сидели соседнего помещика барыня и барышни. Поравнявшись с нами, они замахали платками, и в нашу сторону полетел большой кулек. Коляска промчалась, а мы с Машуткой стали собирать как с неба упавшие гостинцы: каких только сластей не было в кульке».
После этого и стали говорить ее земляки, что петь Плевицкой было гораздо легче, чем говорить. В возрасте 10 лет она приняла первое самостоятельное решение в своей жизни — ушла в монастырь. Провела там всего два года, а потом сбежала с бродячим цирком. «Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычно: из деревни в монастырь, из монастыря в шантан. Но разве меня тянуло туда дурное? Балаган сверкнул внезапным блеском, и почуяла душа красоту, пусть маленькую, неказистую, убогую, но для меня новую и невиданную», — писала спустя годы Надежда Васильевна.
В цирке она познакомится со своим первым мужем, танцовщиком из Польши Эдмундом Плевицким. В 1903 году состоялась их свадьба. Именно под фамилией Плевицкая Надежда Васильевна скоро стала известна всей России.
На одном из выступлений ее услышал знаменитый певец Леонид Собинов. Едва дождавшись окончания, он пришел к ней за кулисы с букетом роз и был краток: «Вы талант!» С этого момента карьера Плевицкой резко пошла в гору. Ее даже стали звать на благотворительные концерты, где она выступала вместе с такими мастерами сцены, как актер МХАТа Василий Качалов и прима балета Мариинки Матильда Кшесинская. В своих воспоминаниях Плевицкая писала: «В зале обычно шумели. Но когда на занавес выбрасывали аншлаг с моим именем, зал смолкал. It было странно мне, когда я выходила на сцену: предо мной стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди. Бутылок множество, и выпито, вероятно, немало, а в зале такая страшная тишина.
Чего притихли? Ведь только что передо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые, игривые песни, а в зале было шумно.
А я хочу петь совсем невеселую песню. И они про то знают и ждут. У зеркальных стен, опустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи, а если кто шевельнется, все посмотрят, зашикают. Такое необычное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь».
Летом 1911 года Надежда Васильевна отправилась на свои первые гастроли. 40 концертов по всей стране. На гонорар она даже сумела купить себе дом в родной деревне Винниково и начать там большое строительство. Надо сказать, что газеты восторженно приветствовали новую звезду русской эстрады, и кое-кто даже вспомнил, что взлетом своей карьеры Плевицкая обязана, прежде всего Леониду Собинову: «Меня чрезвычайно радует ее успех, и я счастлив, что мне удалось уговорить Надежду Васильевну переменить шантан на концертную эстраду. Москва просто покорена пением молодой певицы, таким простым, как поют деревенские бабы, но пронзительным».
Настоящая слава к Плевицкой пришла после концерта в Царском Селе. В 1912 году ее позвали петь для Государя Императора и его свиты. В своих воспоминаниях она так описывает пик карьеры: «И вот распахнулась дверь, и я оказалась перед Государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от Государя.
Я поклонилась низко и посмотрела прямо Ему в лицо и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом.
Словно чудо случилось, страх мой прошел, и я вдруг успокоилась. По наружности Государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. А все же, если бы я и никогда не видела раньше Государя, войди я в эту гостиную и спроси меня — «узнай, кто из них Царь?» — я бы, не колеблясь, указала на скромную особу Его Величества. Из глаз Его лучился прекрасный свет царской души. Поэтому я Его и узнала бы.
Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был Его.
Я пела много. Государь был слушатель внимательный и чуткий. Он справлялся, может быть, я утомилась. «Нет, не чувствую я усталости, я слишком счастлива», — отвечала я.
Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечания мне не сделал.
Теперь, доведись мне петь Царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрила бы и песни этакой Царю бы не пела бы, но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, ведать не ведала, а о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть. А как я в политике не таровата, достаточно сказать то, что, когда слышала о партии кадет, улавливала слово «кадет» и была уверена, что идет речь об окончивших кадетский корпус.
А песни-то про горюшко-горькое, про долю мужицкую кому же и петь-рассказывать, как не Царю своему Батюшке?
Он слышал меня, и я видела в царских глазах свет печальный. Пела я и про радости, шутила в песнях, и Царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную. Я пела Государю и про московского ямщика:
Вот тройка борзая несется,
Ровно из лука стрела,
И в поле песня раздается, —
Прощай, родимая Москва!
После моего «Ямщика» Государь сказал Мосолову: «От этой песни у меня сдавило горло».
Во время перерыва Комаров сказал, что мне поручают поднести Государю заздравную чару.
Чтобы не повторять заздравную, какую все поют, я наскоро, как умела, тут же набросала слова и под блистающий марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля, запела:
Пропоем заздравную, славные солдаты,
Как певали с чаркою деды наши встарь,
Ура, ура, грянемте, солдаты,
Да здравствует русский наш сокол Государь!
И во время ретурнеля медленно приблизилась к Царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал. Я пела ему:
Солнышко красное, просим выпить, светлый Царь,
Так певали с чаркою деды наши встарь!
Ура, ура, грянемте, солдаты,
Да здравствует русский, родимый Государь!
Государь, приняв чашу, медленно ее осушил, глубоко мне поклонился и сказал: «Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда». Государь слегка улыбнулся и прижал руку к сердцу».
Надо сказать, что именно на том концерте она познакомилась со своим будущим вторым мужем, кирасиром-поручиком Шан- гиным. Это была любовь с первого взгляда. Через какое-то время последовал ее развод с Плевицким. А ведь в то время браки между офицерами и певичками были для офицеров запрещены. Однако Шангин не был отправлен в отставку. Говорили, что развод лично благословил Николай II.
Надежда Васильевна недолго упивалась семейным счастьем. Грянул 1914 год. Первая мировая война. Ее муж, кирасир-поручик Шангин, оказался в рядах действующей армии. 22 января 1915 года он погиб в Восточной Пруссии. Но, послухам, Плевицкая не слишком-то переживала эту потерю, потому что увлекалась уже поручиком лейб-гвардии Юрием Левицким. Кстати говоря, война практически не коснулась карьеры певицы. Она по- прежнему выступала, пела для солдат Русской армии. Известно, что Плевицкая дала не меньше сотни таких концертов.
Она продолжала выступать даже тогда, когда Русская армия фактически развалилась. Начала петь уже для отрядов рабочей гвардии, которые через несколько месяцев стали основой рабоче-крестьянской Красной армии. Плевицкая выступала на Северо-Западном и Южном фронтах, и именно на Южном фронте она познакомилась с сотрудником одесской чрезвычайной комиссии Шульгой, с которым у нее завязался еще один бурный роман. Надежда Васильевна не была особенно щепетильной ни в жизни, ни в творчестве. Она с одинаковым успехом исполняла и «Боже, царя храни», и «Марсельезу».
Как именно оказалась Плевицкая в Белой армии, до сих пор неизвестно. Существует две версии. Согласно первой, певицу взяли в плен чины 2-го Корниловского ударного полка, совершившие внезапный налет на позиции красных во время концерта. Шульгу повесили, а Плевицкую доставили в штаб, на допрос к командиру, полковнику Пашкевичу. Согласно второй, и я склоняюсь именно к ней, ее муж, поручик Левицкий, при первом же удобном случае присоединился к белым. Один из первых добровольцев, участник Ледяного похода, Пашкевич стал новым фаворитом любвеобильной певицы. Доходило до того, что она увлекала его в спальню даже в редкие минуты, отделявшие один бой от другого.
Кто же такой Яков Антонович Пашкевич? В книге «Корниловский ударный полк» полковник Левитов писал: «Первопоходник, он был начальником пулеметной команды в Корниловском Ударном Полку и отличался знанием боевого и строевого дела. Умение все узнать и все согласовать помогло капитану Пашкевичу, а подобранный им кадр делал свое дело превращения сырого материала в корниловцев.
Сам капитан Пашкевич и старые корниловцы постоянно вели беседы с солдатами о России, о ее былом величии и теперешнем унижении, о целях и смысле борьбы, начатой генералом Корниловым. Бывшие махновцы вели себя примерно. Не было случая, чтобы кто-либо продал выданную пару белья или другую принадлежность обмундирования, они были всегда трезвы, исполнительны и добросовестно несли службу. По вечерам они собирались и пели песни. С особым подъемом пели «Кудеяра», должно быть, относя к себе слова этой песни, и добровольческие».
Чины второго Корниловского ударного полка Пашкевича боготворили. За глаза ласково называли его Эмблема. Дело в том, что голова Якова Антоновича очень напоминала всем знаменитую корниловскую нашивку — адамова голова над скрещенными мечами. Острословы даже шутили: командир специально позировал художнику, чтобы он уловил и сумел правильно передать мельчайшие детали.
15 июля 1920 года не щадивший ни себя, ни других в бою, храбрый до безумия корниловец Пашкевич был смертельно ранен. Плевицкая рыдала и голосила по-деревенски. Но траур носила недолго. Уже через несколько дней она нашла себе нового фаворита. Очередным избранником сердца стал скромный, застенчивый в жизни и неопытный в любовных романах, 26-летний командир Корниловской ударной дивизии генерал-майор Николай Владимирович Скоблин.
* * *
Галлиполи. Голгофа Белого движения. Клочок старой России на турецком берегу. Корниловцы окрестили это место «Долиной Роз и смерти». Не было возможности бороться со вшами, люди умирали от тифа и холеры. Ходили во фронтовых обносках или самодельных гимнастерках. Полковник Левитов вспоминал позднее: «В Марковском полку был зафиксирован серьезный случай. Один из солдат, собирая дрова в горах, «почувствовал» какое-то постороннее влияние на него, стал осматриваться вокруг и, взглянув на дерево, увидел здоровую голову удава с выпущенным жалом, гипнотизирующего его. Солдат был без оружия и поэтому решил спасаться бегством. Его душевное потрясение от гипноза было настолько тяжело, что в госпитале его лечили от горячки. В мою землянку заползали иногда очень вредные сколопендры, которые больно кусались. Будучи разрубленными пополам, их половинки разбегались в разные стороны, гремя своей чешуей. Были безобидные вредители — это шакалы, которые подходили к лагерю, рылись в ямах с отбросами, стучали банками и жалобно выли и плакали. Они устраивали нам настоящие концерты, как будто выпрашивая у нас подачку, но, увы, у нас у самих желудки были до предела пусты и взывали о том же. Все это убивало нас морально и физически».
Постоянное сокращение пайков обрекало белых воинов на полуголодное существование. Кроме чахлого кустарника на холмах, не было топлива, чтобы просушить одежду и обогреться. Лучше одного из марковских офицеров об этом и не скажешь:
О долина пустынная смерти и роз,
Гадов, змей, сколопендр, скорпионов!
Сколько горя я в лоне твоем перенес
Не сочтут и десятки Ньютонов.
Русь православную,
Боже, избави
Ныне от гнета толпы!
Ныне в борьбе святой,
Боже всесильный,
Армию нашу на веки храни!
На правом фланге лагеря первого армейского корпуса расположились чины Корниловского ударного полка. В палатке со Скоблиным жила покорившая его Плевицкая. По соседству — ее бывший муж, Юрий Левицкий, ожидая со дня на день развода.
В середине июня 1921 года, в узком кругу старших офицеров Корниловского ударного полка и командиров Первого армейского корпуса состоялось бракосочетание Николая Скоблина с Надеждой Плевицкой. Посаженным отцом был генерал Кутепов, венчал их главный священник Галлиполийского лагеря, благочинный Дроздовской дивизии, военный протоиерей отец Николай Бутков. Благословляли их иконой Николая Чудотворца, полковой реликвией дроздовцев. Сегодня она хранится в семье Павла Николаевича Буткова, о котором речь еще пойдет в этой книге. Художественной ценности не представляет вовсе никакой, но историческая ценность и значимость ее бесспорны.
От имени чинов Корниловского ударного полка поздравлял новобрачных капитан Копецкий. Галантно поцеловав руку Плевицкой, он под восторженные крики «Ура!» торжественно произнес: «Принимаем мы вас, Надежда Васильевна, в нашу полковую среду».
Плевицкая счастлива. Доволен Скоблин. Гордятся своим командиром корниловцы. Теперь у них есть своя мать-генеральша, которая немедленно взялась задело. Почти каждую неделю устраивала она концерты для белых воинов, согревая теплом родных и милых русских песен сердца тосковавших по Родине дроздовцев, марковцев, алексеевцев. Один из галлиполийцев, штабс-капитан Дмитрий Мейснер, через несколько лет вспоминал на страницах журнала «Часовой»: «В счастливые для нас минуты мы заслушивались песнями Надежды Васильевны Плевицкой — щедро раздававшей тогда окружающим ее молодым воинам блестки своего несравненного таланта. Ее и буквально, и в переносном смысле носили на руках».
* * *
Из Галлиполи чинов Русской армии генерала Врангеля перевели в Болгарию. Плевицкая с этим мириться категорически отказывалась. Ее артистической натуре претила захолустная дыра Горно-Паничерово, откуда, как сказал бы классик, «хоть сто лет скачи, а до Парижа не доберешься». Лучше полковника-корниловца Левитова, пожалуй, об этом и не скажешь: «Сначала большинство не было довольно размещением полка в такой глуши, хотелось в город и там понемногу встряхнуться. А на какие коврижки можно было это сделать — этого молодежь не учитывала. Однако всем скоро пришлось столкнуться с действительностью жизни. Довольствовать полк без предварительных закупок было довольно трудно. Ближайшие города представляли собой наши захудалые жидовские местечки западного края, и в них не брались даже печь хлеб на полк. При ограниченном складе и при отсутствии своих средств передвижения довольствие наладить было страшно трудно».
Плевицкой надоели одни и те же лица на концертах в бараках. Рамки полкового театра она решительно взялась раздвигать, не обращая ровным счетом никакого внимания на службу мужа. Больше того, сам Скоблин стал активно тяготиться своими обязанностями командира корниловцев. Складывалось впечатление, что без Плевицкой он не может прожить ни минуты. Где была она, там и мелькала синяя корниловская нашивка на черной полковой форме генерала. Именно по настоянию жены Скоблин отпросился у командира корпуса Кутепова в заграничный отпуск.
Зимой 1922 года Плевицкая метеором вернулась на эстраду. Русские эмигранты, разбросанные по всему миру, стоя аплодировали ей, вызывая по несколько раз на бис. Многие плакали на ее концертах. Страны менялись, как в калейдоскопе: Польша, Прибалтика, Германия, Чехия. Особенно полюбили ее в Праге. Когда 29 марта на сцене зала имени Бетховена она в конце спела «Занесло тебя снегом, Россия», некоторые зрители упали в обморок от переизбытка чувств. Это был триумф! Скоблин с гордостью стоял за кулисами, ловя на себе завистливые взгляды. Еще бы, молодой генерал, командир легендарного Корниловского полка, становился своим в высшем свете благодаря жене.
Брюссель, Берлин, София, Белград — всюду концерты проходили в лучших залах, при постоянных аншлагах. Но триумф не был бы полным без Парижа. 15 марта Плевицкая впервые выступила в культурной столице Европы. «Занесло тебя снегом, Россия» стала не только ее визиткой карточкой. Эту песню можно смело назвать явлением, на тот момент главным событием в культурной жизни эмиграции. Не случайно раздавались голоса, что когда большевиков скинут, на коронации нового Государя Императора Надежда Васильевна должна будет исполнить «И будет Россия опять».
Однако отпуск Скоблина явно затягивался. Певица с горечью вынуждена была прервать гастроли, чтобы ее Коленька смог приступить наконец-то к своим прямым обязанностям — командира Корниловского ударного полка. Вернувшись к своим офицерам, Скоблин с горечью для себя узнал, что впервые за все время службы в армии удостоился строгого выговора от командования. И хо тя Кутепов считал главного корниловца своим близким другом, даже для него исключения делать не стал.
Но Николая Владимировича богемная жизнь уже засосала.
1 мая 1924 года Скоблин снова оставил полк ради гастролей во Франции. Надо сказать, что эти концерты предоставили генералу возможность быть представленным великой княгине Ксении Александровне, сестре Николая II. Уже через несколько лет, в разговоре с полковником Трошиным, Скоблин с гордостью говорил: «Представляешь, я стоял перед ней как юнкер, хотя на плечах у меня “зигзаги”».
Плевицкая со своим верным мужем, выполнявшим при ней функции секретаря, директора и пресс-агента, отправилась на гастроли в США. Там и произошел первый скандал. В Нью-Йорке она дала благотворительный концерт в пользу советских беспризорников. Эмиграция была в шоке. Как может жена легенды Белого движения помогать большевикам? Однако это была только прелюдия.
Неожиданно для всех в просоветской газете «Русский голос» появился анонс, приглашавший представителей СССР посетить концерт с участием «рабоче-крестьянской певицы» Плевицкой. Разгромная статья «Глупость или измена» оскорбила чету Скоблиныхдо глубины души. Но сам генерал отвечать не решился. Все же он находился еще на службе. Вместо него выступила Плевицкая, заявившая в начале концерта: «Я артистка и пою для всех. Я вне политики».
Возмущению русской эмиграции не было предела. Скоблина бросились уговаривать, чтобы он повлиял на жену. Пустое. Сам генерал занял весьма странную позицию, заявив, что Надежда Васильевна сама знает, что делает, он не в праве диктовать ей выбор аудитории. С тех самых пор и закрепилось за ним презрительное прозвище «генерал Плевицкий». А некоторые даже отправили гневное письмо генералу Врангелю, суть которого сводилась к следующему: как может такой беспринципный подкаблучник возглавлять один из старейших полков Белой армии?
Главнокомандующий был взбешен. Ему уже до смерти надоели неуправляемые галлиполийцы Кутепова, которые делали то, что им в голову взбредет. То устроят дуэли на винтовках, то не подчиняются приказам командования снять форму и ходить по городам Болгарии и Сербии в штатском. А теперь еще и с большевиками начали заигрывать. С ведома великого князя Николая Николаевича, Врангель подписал 9 февраля 1927 года приказ об освобождении Скоблинаот командования корниловцами.
Справедливости ради стоит сказать, что Скоблин стал жертвой не только необдуманных поступков собственной жены, но и противостояния Врангеля с Кутеповым. Некогда дружные лидеры Белого движения с каждым днем все больше отдалялись друг от друга. Вопреки большинству мифов, сложенных уже спустя десятилетия, и армия, и русская эмиграция были на стороне Кутепова. Во-первых, галлиполийцы не забыли, кто наводил в их лагере порядок и делил с ними все невзгоды. А во-вторых, Александр Павлович был сторонником активной борьбы с советами, для чего и создал боевую террористическую организацию. Петру Николаевичу Врангелю оставалось лишь грустно наблюдать за этим.
Отстраняя Скоблина, он попытался в последний раз напомнить 1-му армейскому корпусу, кто командует армией. Ни к чему это не привело. Молодые генералы «цветных» полков (а именно так назвали корниловцев, марковцев, дроздовцев и алексеевцев) еще больше сплотились вокруг Кутепова. Исключение составил лишь Скоблин, который, обидевшись на всех, уехал во Францию налаживать свой быт.
* * *
Николай Владимирович относился к той категории людей, которые не могут найти себя в обычной жизни. Боевой офицер, привыкший водить полк в «психическую» атаку, никак не мог привыкнуть к новым реалиям. Мало того что Белая армия была вынуждена покинуть Родину, и надежд на возобновление борьбы уже не было, так еще и все эти князья, графы и камергеры с презрением относились к нему. Нет, дело тут не в личных качествах Скоблина. Но для всех он был, прежде всего, командиром Корниловского ударного полка. А всех его чинов считали убежденными республиканцами, которые сделали все, чтобы развалить Российскую империю.
Доходило до того, что «великолепные реки самой благородной крови» не подавали Скоблину руки, называя его правой рукой Корнилова, того самого человека, который арестовал императрицу. Генерал сначала робко возражал, говоря, что Корнилов был убежденным монархистом, а потом вовсе махнул на это рукой. Не должен он, один из старейших добровольцев, отчитываться перед теми, кто всю русскую смуту провел в Париже, оттуда поливая грязью Деникина и Врангеля. Да и хорошо знал Николай Владимирович слова полкового священника дроздовцев протоиерея Николая Буткова: «Николай II не имел права отречения от престола ни юридического, ни морального. Юридического, т.к. нарушал Закон «О престолонаследии» Павла I, а морального, ведь не было никаких оснований отрекаться из-за каких-то малозначительных волнений запасных батальонов в Питере по причине нежелания крови, когда кровь на фронте льётся рекой, когда у тебя в руках вся- армия послушная тебе, чтобы прекратить эти волнения вмиг. Николай нас и предал!»
До сих пор не смолкают споры о Февральской революции. Что же это было на самом деле? Восьмое чудо света, как называли это в то время русские газеты, или буржуазная революция, как уверял всех Ленин? Демократические преобразования, как называли события февраля 1917 года Гучков с Милюковым, или гибель империи? Склонен думать, что последняя формулировка еще и крайне мягкая. Это был тот самый случай, когда историю творили не политики, а грядущие хамы. Провокационный выкрик из толпы вершил не только судьбы отдельных офицеров, чьи растерзанные тела валялись как мусор на улицах Петрограда. Он вершил судьбу страны. Поэтому наиболее точно отражает те события слово «катастрофа». А ведь Государя Императора о ней предупреждали. Еще 11 ноября 1916 года великий князь Михаил Александрович писал ему: «Год тому назад, по поводу одного разговора о нашем внутреннем положении, ты разрешил мне высказать тебе откровенно мои мысли, когда я найду это необходимым. Такая минута настала теперь, я и надеюсь, что ты верно поймешь мои побуждения и простишь мне кажущееся вмешательство в то, что до меня, в сущности, не касается. Поверь, что в этом случае мною руководит только чувство брата и долг совести.
Я глубоко встревожен и взволнован всем тем, что происходит вокруг нас. Перемена в настроении самых благонамеренных людей — поразительная; решительно со всех сторон я замечаю образ мысли, внушающий мне самые серьезные опасения не только за тебя и за судьбу нашей семьи, но даже за целость государственного строя.
Всеобщая ненависть к некоторым людям, будто бы стоящим близко к тебе, а также входящим в состав теперешнего правительства, объединила, к моему изумлению, правых и левых с умеренными, и эта ненависть, это требование перемены уже открыто высказывается при всяком случае.
Не думай, прошу тебя, что я пишу под чьим-либо влиянием: эти впечатления я старался проверить в разговорах с людьми разных кругов, уравновешенными, благонамеренность и преданность которых выше всякого сомнения, и, увы — мои опасения только подтверждаются.
Я пришел к убеждению, что мы стоим на вулкане и что малейшая искра, малейший ошибочный шаг мог бы вызвать катастрофу для тебя, для нас всех и для России.
При моей неопытности, я не смею давать тебе советов, я не хочу никого критиковать. Но мне кажется, что, решив удалить наиболее ненавистных лиц и заменив их людьми чистыми, к которым нет у общества, а теперь это вся Россия, явного недоверия, ты найдешь верный выход из положения, в котором мы находимся, и в таком решении ты, конечно, получишь опору как в Государственном Совете, так и в Думе, которые в этом увидят не уступку, а единственный выход из создавшегося положения во имя общей победы.
Мне кажется, что люди, толкающие тебя на противоположный путь, то есть на конфликт с представительством страны, более заботятся о сохранении собственного положения, чем о судьбе Твоей и России.
Полумеры в данном случае только продлят кризис и этим обострят его.
Я глубоко уверен, что все изложенное подтвердят тебе и все те из наших родственников, кто хоть немного знаком с настроениями страны и общества. Боюсь, что эти настроения не так сильно ощущаются и сознаются у тебя в Ставке, что вполне понятно, большинство же приезжающих с докладами, оберегая свои личные интересы, не скажут резкую правду.
Еще раз прости за откровенное слово; но я не могу отделаться от мысли, что всякое потрясение внутри России может отозваться катастрофой на войне. Вот почему, как мне ни тяжело, но любя тебя так, как я тебя люблю, я все же решаюсь высказать тебе без утайки то, что меня волнует».
На мой взгляд, основная причина всей русской смуты — потеря веры подданными в феврале. За всю историю империи народ был несколько раз на грани этого, при этом продолжая верить: царь хороший, он просто не знает о нашем положении, его обманывают. Однако действия Родзянко со товарищи достигли цели. Именно отсюда и берет истоки абсолютно верная позиция монархистов: чрезвычайно слабое монархическое сознание народа привело к гибели России. Самый последний люмпен в стране знал, что царь — помазанник Божий. И вдруг — государь отрекся! Для людей это означало, что Бог отрекся от страны. А раз так — значит все можно. Отсюда вся вакханалия 1917 года. И эта роковая ошибка целиком лежит на государе. Нельзя было ни при каких обстоятельствах идти на отречение. Но этот роковой просчет Николай II искупил своей мученической смертью.
Безусловно, правы те монархисты, которые уже тогда заявляли, что результатом отречения стало полное угасание государственности в сердце народа. Самодержавие и Царь — две взаимодополняющие составные части. И без самодержавия нет Царя, и без Царя — самодержавия. Вот корень зла: народ узнает, что нет у империи императора. Значит, для этого самого народа нет больше и самодержавия. Больше того, в этот самый момент этот самый народ начал делать странный вывод о неспособности существующего строя править Россией.
Укрепиться в этой мысли народу помогла интеллигенция. Та самая, которую столь точно охарактеризовал лидер большевиков. Ни крестьянство, ни пролетариат сами так и не дозрели до революции, несмотря на активное подстрекательство агитаторов всех мастей с середины 1860-х годов. Эти разночинные ходоки в народ, сея идеи свержения самодержавия, не добились ровным счетом ничего. Зато, это удалось сделать Гучкову и Львову, уверявшим всех, что республика — это свобода, а потому она выше монархии. Трижды прав был Питирим Сорокин, заметивший, что в революционную эпоху в человеке просыпается дурак. Не менее правым оказался и Лев Троцкий, написавший тогда: «Февральская Россия — обломовско-маниловская». Именно эти типажи, одни с ленивого просонья, другие в бурном идиотском восторге, сыграли свою роль, надо заметить, виднейшую, в разрушении страны.
Говорят, что это произошло из-за мягкости Николая II. В этом, дескать, и была его главная слабость. Но отсюда вовсе не вытекает, что, как заявляли большевики, царь был глупым. К примеру, узнав о восстании на броненосце «Потемкин», Государь записал в дневник: «Надо будет крепко наказать начальников и жестоко мятежников!» Но из этого не вытекает и утверждение сегодняшних сторонников престола, что Государь был одним из самых великих русских царей. На мой взгляд, уместнее говорить о том, что Николай II верил в то, что Бог не оставит Россию и все его действия несли отпечаток этой веры, о чем весьма подробно писал последний протопресвитер армии Георгий Шавельский:
«Царь веровал смиренно, просто и непосредственно. Становясь на молитву или входя в храм, он совершенно отрешался от своего царского величия — тут он хотел быть как все — только смиренным рабом Божьим. Наблюдавшие царя умилялись, когда он «Слава в вышних Богу» на всенощной, «Верую» и «Отче наш» на литургии обязательно выслушивал, стоя на коленях; как он, подходя к чаше, делал земной поклон, лбом касаясь пола; как он смиренно, отнюдь не напоказ, после целования креста или Евангелия, лобызал руку священника. Всевозможные удары судьбы, в каких в его царствование не было недостатка, он принимал с удивлявшим наблюдавших его в те минуты спокойствием, фатально веруя, что все совершается по воле Божьей. Его любимым праведником был многострадальный Иов, в день памяти которого он родился, а его излюбленным утешением — евангельское «претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф. 10, 22).
Даже совершенно убежденных, что император Николай II горячо любил Россию и для ее блага во всякую минуту готов пожертвовать собственною жизнью, весьма удивляло слишком спокойное, как бы безразличное его отношение к самым тяжким ударам, постигавшим его государство. Он со стоическим спокойствием прочитал телеграмму, извещавшую о Цусимском разгроме флота; великому князю Николаю Николаевичу, потрясенному катастрофой под Сольдау, он телеграфировал на его извещение: «Будь спокоен; претерпевший до конца той спасен будет»; убийство Столыпина в Киеве и неожиданная в разгар войны смерть гениального воссоздателя и души Балтийского флота, адмирала Эссена вызвали минутное огорчение, за которым последовали полное успокоение и забвение. Государь чрезвычайно легко расставался с самыми близкими своими сотрудниками и сразу же легко забывал их. Во всем этом иные видели патологическое явление, отражавшее удар, нанесенный ему в Японии. Другие oбъяcняют это высоким христианским настроением государя, относившегося к несчастиям подобно Иову: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно» (Иов. 1, 21). Вера, несомненно, укрепляла императора Николая II в несении им всех тяжестей царского венца.
Но одною верою всего объяснить нельзя: вера удерживает христианина от безнадежной скорби (Сол. 4, 13), а не от скорби вообще. Понять настроение императора, кажется, поможет нам собственное его чистосердечное признание. Однажды он сказал Министру иностранных дел Сазонову: «Я стараюсь ни над чем серьезно не задумываться, — иначе я давно был бы в гробу». Значит, стоическое спокойствие государя было результатом не одной крепкой веры, но и сознательной, в целях сохранения здоровья, тренировки.
Но государь и всегда оберегал свой покой, стараясь отстранять все, что могло взволновать его, нарушить его душевное равновесие. Стоило понаблюдать его беседы с представлявшимися ему, чтобы совершенно убедиться в этом. Своего собеседника он ставил в строго определенные рамки. Разговор начинался исключительно аполитичный. Государь проявлял большое внимание и интерес к личности собеседника: к этапам его службы, к подвигам и заслугам, если они были, к его семейному положению и месту его службы; вспоминал личные встречи с ним или с частью, где он служил, с его сослуживцами и т.д. Но стоило собеседнику выйти из этих рамок — коснуться каких-либо недугов текущей жизни, как государь тотчас менял или прямо прекращал разговор».
Следствием отречения Николая II стал развал армии. Безусловно, свою роль сыграл и «Приказ №1». Но именно потеря государя императора стала в глазах фронтовиков крушением монархии. Как писал барон Врангель, «власть государя и ее обязательства не могли быть ничем заменены». Русский солдат с готовностью отдавал жизнь за царя, но из этого не следовало, что он с той же готовностью отдаст ее за Львова. Тем паче что до фронтовиков доходили слухи о том, что у рабочих теперь восьмичасовой рабочий день, а крестьяне готовятся делить землю, дарованную республиканскими завоеваниями. Британский посол в Париже Берти записал тогда в своем дневнике: «Нет больше России. Она распалась, и исчез идол в лице Императора и религии, который связывал разные нации православной верой».
В довершение всего с отречением Николая II русская политика утратила нравственное начало, равно как и верность своему слову, благородство и искренность. То есть весь тот базис, на котором строилось правление не только последнего императора. За стяжательство, лживость и подлость, которые с этого момента стали символом русской политической мысли, несут прямую ответственность те, кто, уничтожив третий Рим, возвел на вершину «тварей дрожащих, право имеющих» из-под пера Достоевского…
Кровь, пролитая Скоблиным за Родину, была лучшим подтверждением верности им присяге и долгу. Утвердившись в этой мысли, Николай Владимирович взялся обустраивать свою жизнь по всем правилам тактики. Он прекрасно понимал, что с наскока Париж не захватить, ведь, как совершенно справедливо заметил полковник Левитов: «Париж — мировой город, кого только в нем нет, и потому жизнь там бьет ключом, все покупается и продается оптом и в розницу, кумиром являлся его величество франк».
Прежде всего, на гонорары от концертов Плевицкой был куплен участок земли во французском департаменте Вар. Вызвав из Болгарии своего закадычного друга, командира первого Корниловского ударного полка полковника Карпа Гордеенко, Скоблин снял ферму.
Однако потомственный горожанин не был морально подготовлен к сельскому хозяйству. Разумеется, блестящая певица Плевицкая, хотя сама и вышла из крестьянской семьи, считала ниже своего достоинства пасти на досуге коров или кормить кур. Всю тяжесть работ взвалили на Гордеенко, который был еще меньше готов к этому. Вот если бы ему поручили взять позиции большевиков или повесить комиссара — результат был бы другой. Атак, полковник изнывал от усталости и еще больше от тоски по настоящему делу.
Гордеенко, выражаясь языком Алексея Толстого, был «отчетливый рубака» и умел произвести неизгладимое впечатление на людей. Известный журналист Раковский запомнил его на всю жизнь: «Потоки площадной брани, расправы плетьми, сбрасывание с борта всех, кто не корниловец, — вот атмосфера, в которой происходила погрузка Корниловской дивизии. Недопустимей всех вел себя командир 1-го полка полковник Гордеенко, сбросивший в море трех офицеров и одного лично ударивший прикладом по голове».
Нет ничего удивительного, что его терпение быстро лопнуло. Он все чаще стал выговаривать Скоблину, что не может работать один за всех. Кончилось все грандиозным скандалом. Гордеенко, выпустив традиционное для него трехэтажное ругательство, в этот раз по адресу певицы, предпочел покинуть «колхоз имени Плевицкой». Свято место пусто не бывает. На его место был немедленно рекрутирован младший брат Скоблина Феодосий и один из офицеров Корниловского полка. Но дела новоявленных фермеров лучше от этого не пошли. Со временем Скоблин с огромным облегчением продал эту землю, предпочтя жить рядом с Парижем, не утруждая себя думами об урожае. Благо, и без этого было о чем размышлять.
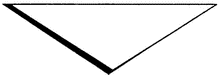
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Глава одиннадцатая Русская армия наступает
Глава одиннадцатая Русская армия наступает Переход из оборонительного положения в наступательное – одно из самых затруднительнейших действий на войне. Наполеон I Это уже начинало надоедать Михаилу Илларионовичу: каждый день кто-нибудь из генералов осторожно намекал
Русская армия
Русская армия Русская армия после многочисленных неудач в войнах против Франции, особенно в 1805 году при Аустерлице, подверглась кардинальной реорганизации. К основным проблемам в области организации и управления войсками можно отнести систему полк-корпус, в которой
Русская армия устала от войны
Русская армия устала от войны В Лагери Жуков отмечает изменение настроений: «В конце 1916 года среди солдат все упорнее стали ходить слухи о забастовках и стачках рабочих в Петрограде, Москве и других городах. Говорили о большевиках, которые ведут борьбу против царя, за мир,
Генерал и певица (Николай Скоблин и Надежда Плевицкая)
Генерал и певица (Николай Скоблин и Надежда Плевицкая) Николай Владимирович Скоблин – личность загадочная, его деятельность в качестве разведчика до сих пор вызывает споры. На чьей же стороне он все-таки воевал? Давайте попробуем
ГЛАВА 3. Скоблин в Париже. Генерал Миллер. Русская эмиграция во Франции. Операции ГПУ против русской эмиграции
ГЛАВА 3. Скоблин в Париже. Генерал Миллер. Русская эмиграция во Франции. Операции ГПУ против русской эмиграции Оставим на время лидеров «Внутренней линии» и вернемся к Николаю Владимировичу Скоблину. Именно в это время он и попадает в орбиту тайной организации внутри
ГЛАВА 5. Генерал Туркул. Скоблин против Федосеенко. «Бунт маршалов». Скоблин во главе «Внутренней линии»
ГЛАВА 5. Генерал Туркул. Скоблин против Федосеенко. «Бунт маршалов». Скоблин во главе «Внутренней линии» Между тем, «Внутренняя линия» продолжала наращивать мощь. По предложению Скоблина, в орбиту тайной организации был вовлечен бывший командир Дроздовской дивизии
ГЛАВА 1. Юбилей Корниловского полка. Похищение Миллера. Исчезновение Скоблина
ГЛАВА 1. Юбилей Корниловского полка. Похищение Миллера. Исчезновение Скоблина 19 сентября 1937 года корниловцы торжественно праздновали 20-летие своего полка. После молебна в соборе Александра Невского на рю Дарю, с выносом полковых знамен, в Обществе гал- липолийцев
ГЛАВА 3. Суд над Плевицкой. Показания свидетелей. Оглашение приговора. Исповедь Плевицкой. Скандал с сыном генерала Абрамова. Агент НКВД Третьяков. Страсти по «Внутренней линии» 25 лет спустя
ГЛАВА 3. Суд над Плевицкой. Показания свидетелей. Оглашение приговора. Исповедь Плевицкой. Скандал с сыном генерала Абрамова. Агент НКВД Третьяков. Страсти по «Внутренней линии» 25 лет спустя 9 сентября 1938 года дело было передано в суд. Спустя почти три месяца, 5 декабря,
РУССКАЯ АРМИЯ В КАНУН ОКТЯБРЯ
РУССКАЯ АРМИЯ В КАНУН ОКТЯБРЯ В начале осени 1917 г. в стране, как известно, разразился Общенациональный кризис, завершившийся 25 октября свержением Временного правительства и взятием власти большевиками. Естественно, социально-политические процессы, происходившие в то
Глава 3. Русская армия и флот к 1904 году
Глава 3. Русская армия и флот к 1904 году В настоящее время любимым аргументом военных на критику в свой адрес стало: «Армия — слепок общества». То есть какое общество, такая и армия. С того же следует начать и рассказ о русской армии начала XX в. Как в жизни империи уживались
Глава 18. Русская армия в Маньчжурии
Глава 18. Русская армия в Маньчжурии К началу 1904 г. в районе Ляояна были сосредоточены главные силы — I Сибирский армейский корпус барона Штакельберга (1-я и 9-я Сибирские стрелковые дивизии) и 5-я Сибирская стрелковая дивизия II Сибирского армейского корпуса. На границу с
5.1. Русская армия
5.1. Русская армия Численность русских войск на Квантунском полуострове, в том числе и гарнизона Порт-Артура, составляла до 40 тысяч человек. В их число входили 30 батальонов пехоты, 1 казачья сотня, 56 полевых орудий, 3 батальона крепостной артиллерии и другие небольшие
Глава 3. РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ
Глава 3. РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ В отчете разведывательного отдела Центрального штаба партизанского движения от 5 февраля 1944 года бригада Каминского описана так:«Одной из крупных частей “РОА” на оккупированной территории СССР остается бригада