Глава 2 Вклад белорусских партизан и подпольщиков в достижение Победы
Борьба белорусских партизан и подпольщиков в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.)
С первых дней войны в захваченных противником западных областях и районах Беларуси, стихийно, независимо друг от друга, стали возникать небольшие партизанские группы и отряды. Первыми партизанами были те, для кого приход фашистов представлял непосредственную опасность, угрозу для жизни – местные сельские активисты, коммунисты и комсомольцы, советские и партийные работники, сотрудники милиции, руководители предприятий, представители интеллигенции, беспартийные граждане. Переходили к партизанским действиям и многочисленные разрозненные группы военнослужащих Красной Армии, оказавшиеся в тылу противника ввиду неудачного для советских войск начала войны и быстрого продвижения вражеских соединений в глубь территории страны.
Несомненно также, что наряду с партийным и служебным долгом, житейскими обстоятельствами, желанием выжить самим и защитить своих родных и близких, всеми, кто с оружием в руках поднялся против оккупантов, руководило глубокое чувство патриотизма, любви к Родине, стремлении видеть ее независимой.
Организаторы таких формирований не могли представить себе, что война продлится долгие годы. Бытовало мнение, что через неделю-другую Красная Армия даст отпор врагу. Их главной задачей было не попасть в руки противника, организоваться, приобрести средства борьбы – оружие, боеприпасы и по мере возможности наносить урон захватчикам. Основной же задачей военнослужащих, попавших в окружение, было любыми путями выйти за линию фронта, чему их обязывал воинский долг.
Борьба советских людей, носившая в первые месяцы войны характер разрозненных, во многом стихийных действий, с течением времени выросла, расширилась и превратилась в планомерные, целенаправленные и организованные выступления, в ходе которых вырабатывались и складывались основные принципы стратегии и тактики боевых действий партизан. Эта борьба официально была инициирована Советским руководством и правящей Коммунистической партией.
Впервые призыв Москвы к развертыванию борьбы в тылу врага был изложен в секретной директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., содержание которой знал лишь узкий круг партийных работников прифронтовых районов. «В занятых врагом районах, – указывалось в директиве, – создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»[243].
Основные положения директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) были обнародованы в выступлении Председателя Государственного Комитета Обороны СССР (ГКО) И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. Оно транслировалось всеми радиостанциями Советского Союза и было опубликовано во всех газетах. Кроме того, выступление было отпечатано миллионными тиражами листовок на разных языках, которые разбрасывались с самолетов на оккупированной территории.
Особенно огромное значение речь И. В. Сталина имела для населения оккупированной фашистами территории и тех районов, которым угрожала оккупация. Известно, что ЦК КП(б)Б получил директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) рано утром 30 июня по телеграфу. В этот же день она была обсуждена на совместном заседании Бюро ЦК КП(б)Б и СНК БССР. Ввиду складывающейся в республике обстановки важное внимание по ее выполнению было обращено на ту часть, где говорилось о развертывании партизанской войны и переходе на нелегальное положение партийных организаций на захваченной врагом территории.
30 июня ЦК КП(б)Б принял и направил в захваченные врагом районы директиву № 1 «О переходе на подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом», а еще через день, 1 июля – директиву № 2 «Партийным, советским и комсомольским организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага» [244].
В директиве № 2 особо подчеркивалось, что «все коммунисты и комсомольцы, способные носить оружие, остаются на территории, занятой врагом»[245].
К середине июля 1941 г. положение на фронтах стало еще более тяжелым. Дальнейшее продвижение гитлеровских войск в глубь страны потребовало усиления внимания вопросам развертывания борьбы во вражеском тылу. 18 июля 1941 г. Центральный Комитет ВКП(б), обсудив накопленный партийными организациями имеющийся опыт организации партизанской войны, принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск»[246], в котором концентрировал ранее данные указания о развертывании партизанской войны.
Основные задачи партизанского движения вытекали из трех основных целей, поставленных перед борьбой в тылу врага: военной, экономической и политической. Военная цель заключалась в уничтожении живой силы и военной техники противника, дезорганизации тыловой работы, разложении воинских частей. Экономическая цель борьбы в тылу захватчиков прежде всего сводилась к тому, чтобы не дать врагу возможности в широких масштабах использовать экономический потенциал захваченных территорий: транспорт, сырьевые, людские и материальные ресурсы. Политическая цель партизанского движения состояла в создании невыносимых условий для врага и всех его пособников, укреплении уверенности советских людей в конечной победе над врагом, вовлечении широких масс в активное сопротивление оккупантам.

Ополченцы принимают оружие
Центральный Комитет ВКП(б) потребовал от руководителей местных партийных организаций повести дело так, чтобы патриотическая борьба в тылу захватчиков «получила размах непосредственной, широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на фронте с германским фашизмом»[247]. Это требование являлось ключевым в определении роли и конкретных задач, которые ставились перед борьбой советского народа в тылу оккупантов.

П. К. Пономаренко
Все мероприятия партии, проводимые в тылу врага, совокупность политических, экономических и военных целей партизанской войны на всех ее этапах так или иначе были направлены на достижение одной основополагающей задачи – быстрейшего разгрома оккупантов.
Развертывание партизанской борьбы на территории республики происходило в исключительно трудных и сложных условиях. В силу складывающейся обстановки на фронтах, вынужденного отхода войск Красной Армии огромное внимание уделялось проведению военной мобилизации, эвакуации в тыл людей, промышленных предприятий, материальных ценностей и сырьевых ресурсов, техники, транспортных средств, имущества колхозов и т. д. Всенародная помощь оказывалась Красной Армии в строительстве оборонительных сооружений, снабжении продовольствием, в медицинском обслуживании. Важными задачами, которые незамедлительно приходилось решать, были перевод промышленных предприятий на выпуск военной продукции, организация истребительных батальонов, отрядов и полков народного ополчения.
Работа по организации партизанских сил осложнялась тем, что в первые дни войны действовал морально-психологический фактор, морально-политическая неподготовленность советских людей к возможным поражениям на фронте, которая являлась производной советской военной доктрины, не допускавшей мысли о необходимости ведения партизанских действий на своей территории. В связи с этим в предвоенные годы практически не обобщался опыт ведения партизанской борьбы. «В предвоенные годы, – отмечал П. К. Пономаренко, – имела место недооценка партизанского движения как одного из средств борьбы с противником, не велась необходимая подготовка кадров и материально-технической базы для борьбы в тылу врага на случай войны. Это объяснялось существованием стратегической доктрины, заключавшейся в том, что если империалисты развяжут против Советского Союза войну, то она будет происходить только на вражеской территории»[248].
Советская военно-теоретическая мысль исходила тогда из следующей политической установки, записанной в Полевом уставе 1935 г., «что всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью Вооруженных Сил Советского Союза с перенесением военных действий на территорию напавшего врага»[249].
В силу названных, а также других причин, в военных академиях и военных школах, а также в армейских подразделениях способам и тактике партизанских действий внимания не уделялось, а также не велась необходимая подготовка кадров и материально-технической базы для борьбы в тылу врага и в пограничных военных округах.
Немецким войскам, преодолев упорное сопротивление войск в приграничных районах, удалось в течение первой недели войны продвинуться далеко на восток. 28 июня 1941 г. с захватом г. Минска было замкнуто кольцо окружения для основных сил 3-й, 10-й и части сил 13-й армий, располагавшихся западнее Минска. Продвигаясь далее на восток, гитлеровские войска к концу первой декады июля вышли к Смоленску, а 14 июля им удалось замкнуть кольцо окружения вокруг г. Могилева. Ожесточенные бои развернулись на территории Гомельской и Полесской областей, и к началу сентября линия фронта продвинулась местами далеко за пределы Беларуси[250]. В этих условиях заниматься принципиальными политическими, организационными, военно-тактическими и другими вопросами партизанской борьбы было очень трудно. Выполнить такой объем сложных задач в предельно сжатые сроки и в атмосфере тяжелой боевой обстановки можно было лишь совместными усилиями партийных, советских и военных органов.
В короткий срок, в обстановке ожесточенных боев, вынужденного отхода наших войск, партийными, советскими, комсомольскими и военными органами была проведена огромная работа по оперативному выполнению директив и указаний о развертывании борьбы в тылу врага.
Необходимо отметить, что сложившийся перед войной, особенно в восточных областях, советский уклад жизни с его идейными и моральными ценностями, высоким уровнем патриотического воспитания предопределил отношение народа к войне и в частности к партизанскому движению. Поэтому призыв к борьбе попал на благоприятную почву.
Следует сказать, что в первые месяцы войны основной массе населения оккупированной территории неизвестно было содержание важнейших государственных актов, содержащих призыв к развертыванию партизанской войны в тылу врага. Эти совершенно секретные документы были доведены лишь до узкого круга руководящих партийных работников в советском тылу. Однако простые советские люди, умом и сердцем понявшие необходимость организации народного сопротивления оккупантам, самостоятельно, без указания «сверху», включились в активную борьбу с захватчиками. Главным мотивом, которым они при этом руководствовались, являлась мера осознанности собственной ответственности и долга перед защитой родного дома, села, страны в целом.
Известно, что еще до официального призыва Москвы в разных районах Западной Беларуси стихийно стали возникать партизанские группы, которые потом превращались в отряды. Одним из первых таких отрядов был Старосельский партизанский отряд Жабинского района Брестской области. Он был создан уже на третий день войны, 24 июня 1941 г., в лесу возле деревни Старое Село Жабинковского района Брестской области. Его организаторами были жители Старосельского сельского совета, а также оказавшиеся в окружении пограничники и воины 84-го и 125-го стрелковых полков. Отряд возглавил майор В. И. Дородных, его заместителем стал председатель сельсовета М. Н. Чернак. После гибели Михаила Чернака в мае 1943 г. отряд стал носить его имя. До 3 июля 1943 г. отряд действовал самостоятельно, а затем в составе бригады имени И. В. Сталина Брестского соединения[251].

А. С. Азончик
В июле 1941 г. одну из первых партизанских групп в Слонимском районе Барановичской области организовал бывший член КПЗБ А. В. Фидрик, возглавлявший незадолго до войны колхоз в родной деревне. К группе Александра Фидрика присоединилась группа военнослужащих под командованием Г. А. Дудко, а осенью группа лейтенанта П. В. Пронягина. В декабре 1941 г. в неравном бою с фашистами у деревни Русаково А. В. Фидрик погиб. Отряд, созданный им, продолжал действовать в Коссовском, Пружанском, Ружанском, Дрогичинском, Дивинском районах Брестской, Бытенском, Слонимском – Барановичской, Ганцевичском, Ленинском – Пинской, Стародорожском – Минской областей. Ко времени соединения с частями Красной Армии в марте 1944 г. он насчитывал 340 партизан[252].
В июле-сентябре 1941 г. в Беловежской и Ружанской пущах действовали 12 партизанских групп, объединивших около 500 советских военнослужащих[253]. Окруженцы и местные жители, вставшие на путь партизанской борьбы, объединяли свои силы для более активных действий против врага. Так, в июле 1941 г. жители деревень Собольки и Кукличи Порозовского района, бывшие активисты КПЗБ В. В. Янушко, А. С. Савко, С. К. Кутько установили связь с несколькими десятками надежных жителей деревень Боровики, Тереховичи, Дешковцы, Миничи, Новый Двор и других и создали антифашистский комитет под руководством Викентия Янушко (подпольная кличка «Поддубный»). Подпольщики начали собирать оружие, которое передавали бойцам и командирам Красной Армии. В сентябре подпольщики объединились с группой военнослужащих и организовали партизанский отряд. Командиром отряда стал В. В. Янушко «Поддубный». Отряд «Поддубного» действовал самостоятельно до сентября 1942 г. В августе 1942 г. он насчитывал 179 партизан. В сентябре 1942 г. вел тяжелые бои с карателями и вышел из окружения отдельными группами. В феврале 1943 г. часть их соединилась с другими формированиями, образовав отряд имени С. М. Кирова под командованием капитана Красной Армии К. Б. Нищенкова, вошедший позже в партизанскую бригаду имени П. К. Пономаренко Брестской области. В. Янушко стал заместителем командира отряда, оставаясь при этом секретарем Порозовского подпольного антифашистского комитета[254].
В августе 1941 г. такой же отряд был создан в Березовском районе. В его состав вошли жители Песковского сельсовета и попавшие в окружение военнослужащие. Возглавил отряд старшина В. М. Монахов[255]. В Куренецком районе Вилейской области организатором партизанской группы стал сын безземельного крестьянина с хутора Яцковичи Вилейской области А. С. Азончик. К концу 1941 г. в ней насчитывалось около 90 человек. «В условиях буржуазно-помещичьей Польши это были сельскохозяйственные рабочие, батраки, деревенская беднота, – вспоминал бывший секретарь Вилейского подпольного обкома партии И. Ф. Климов. – С приходом Красной Армии в Западную Белоруссию и после установления там Советской власти эти люди принимали активное участие в осуществлении революционных социалистических преобразований, делили помещичью землю, выселяли осадников. Можно себе представить, с какой жадностью принялись за работу на освобожденной земле эти исконные хлебопашцы! Но вот вламывается наглый и жестокий враг, и они вступают в смертельную борьбу с ним»[256]. За время своей деятельности в тылу врага отряд под командованием А. С. Азончика провел 439 боевых операций. Командир лично пустил под откос 47 вражеских эшелонов. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе в тылу врага, А. С. Азонч и к удостоен звания Героя Советского Союза [257].
В ноябре-декабре 1941 г. несколько групп в Каменецком и Шерешёвском районах организовали довоенный начальник Каменецкого райотдела НКВД Е. М. Афанасьев и сотрудник райотдела НКГБ этого же района И. П. Лапин. Позже эти группы объединились в районные антифашистские организации[258].
В Барановичской области отдельные части и подразделения советских войск, попавшие в окружение в районе Ново-грудка, в так называемый «Новогрудский котел», оказывали сопротивление врагу до середины августа 1941 г. Оставшиеся в живых и на свободе воины, получая поддержку населения, переходили к партизанским методам борьбы. Так, восточнее Новогрудка некоторое время действовал отряд полковника Бессиярова. В Кореличском районе осенью 1941 г. из местной молодежи партизанскую группу создал Г. Д. Беляй. В Зельвенском районе уже летом 1941 г. местный активист, бывший член Компартии Западной Беларуси П. И. Булак начал налаживать связи между патриотически настроенными людьми и на базе этих подпольных сил вместе с командиром РККА Б. А. Булатом создал впоследствии Голянский партизанский отряд. Многие партизанские группы, организованные летом и осенью 1941 г. в Бытенском и Слонимском районах, позднее объединились, образовав отряды.
Во многих населенных пунктах создавались молодежные антифашистские группы. Первая такая подпольная антифашистская молодежная группа на территории Свислочского района нынешней Гродненской области возникла в деревне Доброволя в начале оккупации. Возглавлял группу М. А. Урбанович, в состав входили П. Т. Василенко, председатель исполкома И. Панотчик, депутат сельсовета В. Горденя, местные активисты Г. Шмыга, А. Янковский и другие, всего 18 человек. Подпольщики собирали оружие на местах боев, медикаменты, помогали раненым красноармейцам. По доносу предателя в июле 1941 г. руководитель группы и несколько подпольщиков были схвачены и расстреляны. Оставшихся на свободе патриотов возглавила девушка – Паша Василенко. Устроившись на работу в немецкую столовую, она доставала и передавала партизанам продукты, сообщала нужную информацию, в этом ей помогала вся семья. Предатель выдал и их. Осенью 1942 г. П. Василенко, ее отец Тимофей Иванович, братья Иван и Александр были повешены в центре деревни Доброволя[259].
Подпольные группы и организации антифашистской направленности зарождались во многих населенных пунктах Беларуси. Только в Минске и его окрестностях действовали более 50 подпольных групп. За неполных два месяца со дня оккупации около двух десятков подпольных групп возникло в различных районах и предприятиях г. Гомеля. Примерно такое же количество групп насчитывалось в 1941 г. в Витебске, Борисове, Орше и Оршанском районе, 12 – в Осиповичах, до 10 – в Ново-Белице. К концу 1941 г. в Гродно лишь были разбиты и рассеяны, прекратили свое существование или вынуждены были уйти в другие районы.

Крестьянка А. П. Шиш провожает сына и внука в партизанский отряд
В первые же дни оккупации начали борьбу в тылу врага партизанские группы в Витебском, Богушевском, Сенненском, Лиозненском, Меховском, Россонском и других районах Витебской области. Так, в Чашникском районе в июне 1941 г. был образован партизанский отряд, инициатором создания и командиром которого стал участник гражданской войны, председатель колхоза «Красная Звезда», депутат сельского Совета Т. Е. Ермакович[260].
В деревне Езерище Меховского района в первые дни войны был организован истребительный батальон, насчитывавший около ста человек, на основе которого 11 июля 1941 г. был создан партизанский отряд.
В ходе войны партизанское движение Беларуси прошло три стадии развития, которые хронологически в основном совпадают с тремя периодами Великой Отечественной войны. Эту взаимосвязь и обусловленность можно объяснить тем, что деятельность партизанских формирований с самого начала была подчинена интересам Красной Армии как главному фактору в разгроме агрессора, а потому изменения на советско-германском фронте самым непосредственным образом влияли на организацию, размах и целенаправленность партизанских ударов.
Боевые действия партизан Беларуси летом-осенью 1941 г. В июне-августе 1941 г. Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои на территории Беларуси. В прифронтовой полосе шел активный процесс создания военизированных гражданских формирований, многие из которых непосредственно первое время тесно взаимодействовали с частями и подразделениями Красной Армии.
Особенно это было характерным для партизан Пинской, Полесской, южных районов Минской, Гомельской и частично Могилевской и Витебской областей. В качестве примера можно назвать Пинский (В. 3. Коржа), Туровский, Петриковский, Октябрьский, Глусский, Василевичский и Речицкий партизанские отряды. Все они первоначально создавались из местного населения как истребительные отряды (батальоны). После получения директивы от 29 июня на их основе стали создаваться партизанские отряды. Это взаимодействие проходило как в форме использования бойцов истребительных отрядов в качестве проводников-разведчиков, так и в проведении совместных боевых операций этих формирований с подразделениями воинских частей. В ряде мест партизаны действовали вместе с воинскими подразделениями по удержанию определенного участка линии фронта.

Т. П. Бумажков

Ф. И. Павловский
Одним из первых начал свой боевой путь, защищая подступы к Пинску, партизанский отряд под командованием заведующего финхозсектором обкома партии В. 3. Коржа. Командир отряда имел богатый опыт участия в партизанской борьбе на территории Западной Беларуси в 1920-х гг., а также в ходе антифашистской войны в Испании. Первое боевое крещение отряд принял в бою под Пинском 4 июля 1941 г., где понес свои первые потери. С оккупацией Пинска отряд, взаимодействуя с частями 75-й стрелковой дивизии, отступал до р. Случь, а затем обосновался в лесах Ленинского и Житковичского районов, действуя на дорогах Ленин-Житковичи, Микашевичи-Житковичи. 5 августа 1941 г. партизанами отряда из засады была уничтожена грузовая машина с 15 гитлеровцами, еще через несколько дней группа мотоциклистов-разведчиков.
По указанию ЦК КП(б)Б Пинский обком партии, действуя с территории соседней Полесской области, летом 1941 г. создал из числа советского, партийного и комсомольского актива 15 партизанских отрядов, из них остались на оккупированной территории и развернули действия шесть – Телеханский, Ивановский, Ганцевичский, Лунинецкий, Сталинский и Давид-Городокский.
Активно взаимодействовали в июле-августе с частями Красной Армии также Туровский и Петриковский партизанские отряды Полесской области. Первый, возглавляемый М. М. Белявским, совместно с красноармейцами вел упорные бои за Туров, который неоднократно переходил из рук в руки. 13 августа воинам и партизанам удалось выбить противника из Турова и удерживать его в своих руках до 23 августа.
Петриковский партизанский отряд под командованием X. И. Варгавтика, взаимодействуя с воинским подразделением майора Плевако, захватил и несколько дней удерживал г. Петриков[261].
Активно взаимодействовал с подразделениями Красной Армии партизанский отряд «Красный Октябрь», возглавляемый первым секретарем Октябрьского райкома партии Т. П. Бумажковым и уполномоченным наркомата заготовок Ф. И. Павловским. Свою деятельность он начал в первых числах июля как истребительный батальон, созданный в Октябрьском районе Полесской области. Ядро отряда составили партизаны Гражданской войны Л. М. Мельник, В. Т. Шантар, Г. И. Барьяш, И. Н. Кулей и другие патриоты. По мере приближения фронта к границам района бойцы батальона взаимодействовали с оборонявшимися частями Красной Армии, совместно с ними вели активные бои – уничтожали живую силу и технику противника, взрывали мосты, добывали разведданные. Под прикрытием бронепоезда сводного отряда, которым командовал подполковника. В. Курмышев, партизаны ворвались в деревню Оземля, где разгромили штаб вражеской дивизии[262]. Всего, взаимодействуя с формированием Курмышева, партизаны Октябрьского района провели 10 боевых операций, уничтожили более 300 солдат и офицеров противника, подорвали 4 железнодорожных моста, уничтожили и повредили 50 танков и бронемашин, захватили 55 автомашин, а также важные штабные документы[263].
В конце лета-осенью 1941 г. действовавшие в Полесской области партизанские отряды и группы понесли существенные потери в боях с преследовавшими их карателями, многие были рассеяны на мелкие группы. Те, кто выстоял, во главе с отрядом «Красный Октябрь», сохранившим боеспособность, явились основой для последующего роста партизанских сил. На январь 1942 г. в Полесской области действовало 14 партизанских отрядов. В конце января 1942 г. в ходе совместных боев по защите образовавшейся Октябрьской партизанской зоны подавляющее большинство из них объединилось в так называемый «гарнизон Ф. И. Павловского» – прообраз областного партизанского соединения. Созданное объединенное формирование насчитывало около 1300 партизан под руководством коллегиального органа – совета командиров отрядов. Совет возглавлял командир отряда «Красный Октябрь»
Герой Советского Союза Ф. И. Павловский. В октябре-декабре из отряда выделились инициативные группы для организации новых партизанских отрядов в Глусском, Петриковском, Копаткевичском и Октябрьском районах.
Подобно отряду «Красный Октябрь», основу многих других партизанских формирований, созданных накануне или сразу же после оккупации, составляли бойцы истребительных батальонов, а также отрядов народного ополчения. Всего в Беларуси на базе истребительных батальонов и подразделений народного ополчения было организовано до 30 партизанских отрядов.
Активно взаимодействовали с кавалерийской группой полковника А. И. Бацкалевича в качестве разведчиков и проводников во время осуществления рейда в тыл противника в конце июля – начале августа 1941 г. партизаны Василевичского района[264].
В качестве примера боевого взаимодействия с подразделениями Красной Армии летом 1941 г. можно привести выдержку из отчета Речицкого партизанского отряда того времени:
«…11 июля 1941 г. отрядом во взаимодействии с 2 подразделениями 800-го стрелкового полка под командованием капитана Долбина и лейтенанта Максимова в 6:00 было занято мест. Паричи. В бою была уничтожена 1 бронемашина, взят 1 мотоцикл, который передан 800-му стрелковому полку. Убито 9 чел. Наших потерь нет…
С 18 по 21 июля 1941 г. отряд по приказанию генерал-майора тов. Судакова был придан стрелковому полку (командир полка майор Пипин). Занимали оборону в районе Ракшин, Чирковичи и Старина Паричского района.
22 июля 1941 г. отряд по приказанию генерал-лейтенанта Кузнецова был переброшен в Стрешинский район с задачей взаимодействовать с 66-м кавалерийским полком, где командир полка полковник Москаленко, занимать оборону в районе дер. Антоновка, Ящицы, Доброгощи, Василевичи, Кабановка и Стрешин. Совместные действия отряда с полком проходили до 1 августа 1941 г.
4 августа 1941 г. отрядом в мест. Стрешин был принят бой, где было уничтожено 2 бронемашины и захвачено одно 37-мм орудие. Было убито 4 фашиста. Отряд потерь не имел.
С 4 по 18 августа 1941 г. отряд по приказанию штаба 3-й армии проводил разведку в районе Паричи-Стрешин.
18 августа 1941 г. одной группой отряда в составе 50 чел. под командой командира Алексеенко на шоссе Гомель-Калинковичи у дер. Борщовка было уничтожено 8 грузовых автомашин, убито 35 фашистов. В бою группа имела потери в количестве 2 чел. Второй группой отряда в количестве 45 чел. под командой командира Иванова в районе сенозавода (Речицкого) было захвачено 12 мотоциклов. Из них
8 передано штабу 3-й армии, 4 уничтожено в период боя. Убито 25 фашистов. Группа потерь не имеет»[265].
Яркую страницу в героическую летопись народной войны вписал Суражский партизанский отряд Витебской области. Он был создан из рабочих и служащих картонной фабрики в поселке Пудоть
9 июля, за несколько дней до немецкой оккупации. Его организатором и первым командиром стал М. Ф. Шмырёв, партизан Гражданской войны, награжденный за боевые заслуги орденом Красного Знамени, любовно прозванный в народе «батькой Минаем». Свою первую боевую операцию отряд провел 25 июля, обстреляв пулеметным огнем расположившихся на берегу р. Туровка вражеских кавалеристов. В результате было убито и ранено до 30 гитлеровцев. Первый успех не только поднял настроение бойцов, но и способствовал быстрому росту отряда за счет местного актива и военнослужащих, которым не удалось выйти из окружения. Спустя
3 месяца отряд вырос в пять раз и достиг свыше 100 человек. С наступлением зимы отряд начал непрерывные бои с немецкими войсками, контролируя дороги Сураж-Усвяты, Сураж-Велиж, Усвяты-Велиж.
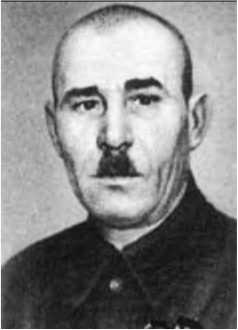
М. Ф. Шмырёв
Одной из важнейших задач, стоящих перед партизанами Беларуси, была боевая деятельность на коммуникациях противника. Практически все партизанские группы и отряды, направляемые в тыл врага или заблаговременно оставляемые, получали задания на проведение диверсионных действий на коммуникациях. Для этой цели они снабжались необходимыми минно-подрывными средствами. Наиболее эффективными были боевые и диверсионные действия партизан на железнодорожных коммуникациях. За период с сентября по декабрь 1941 г. партизаны Беларуси пустили под откос свыше 80 эшелонов противника. Боевые действия на коммуникациях срывали обеспечение гитлеровской армии вооружением, боеприпасами, продуктами питания, создавали затруднения в передислокации войск, оказывали воздействие на морально-психологические настроения войск противника. Впервые особенно остро действия советских партизан на коммуникациях в своем тылу гитлеровское руководство ощутило в период битвы за Москву. Уже 26 сентября 1941 г. генерал-квартирмейстер германской армии Вагнер информировал начальника генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдера о том, что группа армий «Центр» не может снабжаться «непосредственно через свой район из-за нарушений партизанами железнодорожных путей»[266].

Один из первых подорванных партизанами составов. Июль 1941 г.
Весьма показательно также признание командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Ф. фон Бока, который именно в катастрофическом положении на транспорте видел одну из причин поражения своих войск под Москвой. «Русские, разрушив почти все сооружения на главных магистралях и дорогах, – записал он в своем дневнике 7 декабря 1941 г., -смогли так умело увеличить наши транспортные трудности, что фронту не хватает самого необходимого для существования и боев. Боеприпасы, горючее, продовольствие и зимнее обмундирование не поступают из-за катастрофического состояния железнодорожного транспорта и растянутости коммуникаций (до 1500 км), автотранспорт поставлен перед невыполнимыми требованиями. Его эффективность падает. Получается так, что сегодня у нас нет никакой возможности для значительного маневра»[267].
И это при том, что для борьбы с белорусскими партизанами гитлеровское руководство вынуждено было привлекать огромные силы, которые так нужны были на фронте: три охранных (221, 286, 403-я) и две пехотных (339, 707-я) дивизии, 1-ю кавалерийскую бригаду СС, части полевой жандармерии, полицейские полки и батальоны [268].
В первые месяцы войны партизанское движение особенно остро испытало на себе все трудности и невзгоды, обусловленные не только материально-технической, но и морально-психологической неподготовленностью советских людей к ведению такого способа сопротивления врагу. Сказывалось отсутствие подготовленных кадров, разработанной системы руководства, потайных баз с оружием и продовольствием, четкой программы конкретной деятельности, специальных минно-подрывных и средств связи и т. д. Особенно трудным для партизан был осенне-зимний период 1941 г. После первых боев и диверсионных действий большинство партизанских отрядов исчерпали запасы боеприпасов и минно-подрывных средств, в боях с карателями многие отряды были разбиты и рассеяны. Некоторые отряды, разбившись на группы, решили продвигаться на выход в советский тыл. Оставшиеся партизанские формирования стремились любыми способами сохранить личный состав, накопить оружие и боеприпасы, чтобы с наступлением весны вновь приступить к активным действиям. Тем не менее в этой чрезвычайно тяжелой обстановке, благодаря народному патриотическому подъему, в Беларуси к концу 1941 г. сумели закрепиться и продолжали свою деятельность около 100 партизанских отрядов и примерно такое же количество партизанских групп. Люди, поднявшие оружие против захватчиков, представляли разные слои довоенного общества Советской Беларуси. Весьма значительной в развертывании антифашистской борьбы в оккупированной Беларуси была роль военнослужащих РККА и пограничных войск НКВД, оказавшихся в тылу врага[269].

Партизанские трофеи
Многочисленные документы советских и немецких архивов свидетельствуют о том, что несколько тысяч бойцов первых советских партизан действовали фактически на всей территории Беларуси и создали устойчивые очаги партизанской войны, которую гитлеровцам так и не удалось подавить ни в исключительно тяжелом для партизан 1941 году, ни в 1942, ни в последующие военные годы, когда партизанское движение стало массовым. На тысячи шел счет и лиц, вошедших в состав подпольных антифашистских организаций, которые возникли во многих населенных пунктах республики. Эти неустрашимые патриоты своими действиями не давали покоя оккупантам, личным примером и самопожертвованием будили совесть сомневающихся и колеблющихся, вовлекали в сопротивление захватчикам всё более широкие слои населения.
Необходимо отметить, что в основной своей массе население Беларуси не воспринимало стереотипы, навязываемые нацистской пропагандой, находило и утверждало свои мировоззренческие ценности. Поэтому одной из главных задач патриотического подполья было разоблачение сущности нацизма и его оккупационной политики. В этом значительную помощь им оказывали из-за линии фронта своим творчеством эвакуированные деятели белорусской культуры.
Мощным катализатором развития партизанской и подпольной борьбы стала победа войск Красной Армии в битве за Москву. Информация об этом событии передавалась из уст в уста, поднимая настроение и уверенность населения оккупированных территорий в том, что враг будет в скором времени окончательно изгнан за пределы страны.

П. 3. Калинин
Особое значение для развития партизанского движения на оккупированной территории СССР имело осознание высшим советским руководством важности и значения вооруженной борьбы в тылу врага, необходимости придания этой борьбе стратегического значения, включение партизанского фактора составной частью в советскую стратегию ведения войны[270].
В 1942 г. партийные и советские органы БССР благодаря поддержке Москвы осуществили ряд важных мероприятий по установлению связи, организации и развитию партизанского движения в Беларуси. Выход соединений Красной Армии к северо-восточным районам Беларуси, образование «Суражских ворот» способствовало установлению непосредственных связей со многими партизанскими отрядами, обеспечению их вооружением, взрывчаткой, средствами связи, медикаментами.
Огромное значение имело создание системы централизованного руководства борьбой народа в тылу врага в пределах всей страны: Центрального штаба партизанского движения[271], фронтовых (Западного и Калининского), а также Белорусского штаба партизанского движения[272]. Благодаря активным боевым и диверсионным действиям партизанских отрядов и групп, стойкости и мужеству, самоотверженности и героизму патриотов, на территории Беларуси осуществлялся быстрый рост вооруженного сопротивления.
Численность партизанских сил и подпольных структур постоянно возрастала. Если на 1 января 1942 г. в Беларуси насчитывалось около 10 тысяч вооруженных бойцов, то к концу года их численность составляла уже около 50 тысяч (количество партизан Беларуси возросло в 4–5 раз)[273], объединенных в 450 партизанских отрядов, значительная часть которых входила в состав 56 партизанских бригад[274]. Учтенные партизанские резервы составляли свыше 150 тысяч человек[275]. Начальник БШПД П. 3. Калинин, характеризуя политическую обстановку и развитие партизанского движения в Беларуси в декабре 1942 г., писал: «Партизанское движение в Белоруссии продолжает стремительно расти. Активность боевых действий возрастает. Во многих районах Белоруссии сложилась своеобразная обстановка. Немецкие гарнизоны из сельских местностей вытеснены и находятся только в районных центрах, занимая круговую оборону и охраняя коммуникации. Насаженные немцами органы власти – волостные управы – разгромлены, гарнизоны перебиты. В этих районах полностью прекратилась поставка населением налогов. Ни хлеба, ни молока, ни мяса, ни денег население немцам не сдает.
Население горячо поддерживает партизан. Крестьяне с оружием в руках идут в партизанские отряды, оружие добывают всяческими способами. За винтовку охотно отдают 3–4 пуда хлеба. В сборе оружия помогают старики, женщины и дети. Немцы в каждом белорусе видят потенциального партизана»[276].
Все это свидетельствовало о том, что партизанское движение на оккупированной территории поднялось на качественно новый уровень.

Плакат Н. И. Обрыньбы, партизана бригады «Дубова». 1942 г.
Однако факт наличия большого количества партизан еще не означал, что эти силы будут эффективно использованы в интересах Красной Армии. Для этого необходимо было осуществить ряд мероприятий по созданию централизованного руководства, создания эффективной системы управления разрозненными партизанскими очагами. Такая система в виде подпольных партийных органов, областных, зональных и районных партизанских соединений, бригад и отрядов в тылу врага и штабов партизанского движения окончательно сложилась только к концу 1943 г.
Тем не менее трудно переоценить заслуги партизан, а также их роль в борьбе с оккупантами в первый период Великой Отечественной войны. К концу 1942 г. партизанами Беларуси было пущено под откос более одной тысячи воинских эшелонов. Кроме того, они провели ряд операций по выводу из строя крупных железнодорожных мостов на важнейших железнодорожных и шоссейных коммуникациях, в том числе 110-метрового моста через р. Дриссу на железнодорожной магистрали Полоцк-Даугавпилс, 137-метрового через р. Птичь на железной дороге Брест-Гомель, движение через которые было прервано на 16 и 18 суток. Действия советских патриотов на коммуникациях были настолько эффективными, что в конце 1942 г. начальник штаба германского верховного главнокомандования фельдмаршал В. Кейтель вынужден был признать: «Усиленные действия партизан и многочисленные факты нарушения ими транспортного снабжения заставляют резервные дивизии, полевые учебные дивизии, учебные и запасные части ВВС, находящиеся на территории империи и в оперативных районах Востока, в будущем частично использовать для охраны железных дорог»[277].
Английский историк Дж. Рейтлинджер был недалеко от истины, утверждая, что «начиная с зимы 1941 г. и до возвращения Красной Армии большая часть Белорусской Советской Республики оставалась в руках партизан. Действительные размеры территории, которую немцы контролировали, были столь малы, а объем деятельности гражданских оккупационных властей был столь незначителен, что настоящую историю страны в период германской оккупации надо искать в анналах партизанской войны, главным театром которой Белоруссия оставалась в течение всего периода германской оккупации» [278].

Партийное собрание в 1-й Минской партизанской бригаде. 1943 г.
Активизация партизанской и подпольной борьбы во втором периоде Великой Отечественной войны (18 ноября 1942 – декабрь 1943 г.)
Победа под Сталинградом стала действенным импульсом для роста партизанских рядов. В условиях начавшегося коренного перелома в войне советское военно-политическое руководство поставило задачу дальнейшего расширения партизанской борьбы, вовлечения в нее новых слоев населения, организационного укрепления и повышения боевой активности партизан. В концентрированном виде эти задачи были изложены в приказе Наркома обороны № 189 от 5 сентября 1942 г. и в приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 095 от 23 февраля 1943 г.[279]
Важную роль в мобилизации сил и средств на выполнение поставленных задач сыграл V пленум ЦК КП(б)Б, состоявшийся в Москве 26–28 февраля 1943 г., который рассмотрел вопрос «Об обстановке и задачах работы партийных органов и партийных организаций в оккупированных районах Белоруссии». На пленуме были подведены итоги боевой деятельности партизан и подпольщиков Беларуси, обобщен опыт создания в республике вооруженных партизанских сил, определены пути дальнейшего совершенствования организации и управления этими силами, а также определены задачи по дальнейшему росту и организационному укреплению партизанских формирований, усилению их боевой деятельности. Важнейшей задачей являлось усиление борьбы на коммуникациях оккупантов, спасение населения от истребления и угона в Германию, а также народного добра от грабежа и уничтожения отступавшими вражескими войсками.
Несомненно, что огромное воздействие на патриотический подъем народных масс, на расширение масштабов вооруженной борьбы в тылу врага оказывали успехи Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Однако не меньшее значение в этом деле и, особенно, в пополнении партизанских рядов из числа местного населения имела боевая активность партизанских формирований, их организованность и сплоченность. Разгром вражеских гарнизонов, создание новых и расширение существовавших партизанских зон, постоянные удары по коммуникациям, вооруженная защита населения во время отражения карательных экспедиций противника, агитационно-пропагандистская работа по разъяснению сущности оккупационного режима и доведение правдивой информации о событиях на фронтах войны, в том числе и информации о боевых действий союзников по антигитлеровской коалиции, всё это поднимало авторитет партизан, способствовало постоянному притоку жителей деревень и городов в их ряды.

Штаб партизанской бригады «Пламя» Минской области. В центре – командир бригады Герой Советского Союза Е. Ф. Филипских
К маю 1943 г. на учете БШПД находилось уже 548 отрядов, общей численностью 75 670 партизан и партизанок[280]. Еще более массовым стал приток населения в партизанские формирования летом и осенью 1943 г., после победоносного завершения Курской битвы и перехода Красной Армии в наступление с целью освобождения Левобережной Украины. В летние месяцы 1943 г. в сравнении с весенними приток пополнения почти удвоился и составлял свыше 8,6 тысячи человек в месяц. В сентябре численность партизан, учтенных в БШПД, превысила 103 тысячи, а в ноябре – 122 тысячи человек [281]. Всего в течение 1943 г. в партизанские формирования, находившиеся на связи с БШПД, вступили 96 тысяч человек, из которых свыше 85 % являлись местными жителями. Основная часть пополнения поступала из партизанских зон, где в основном концентрировались скрытые партизанские резервы, подготовке которых подпольные партийные органы и командование партизанских формирований уделяли постоянное внимание.
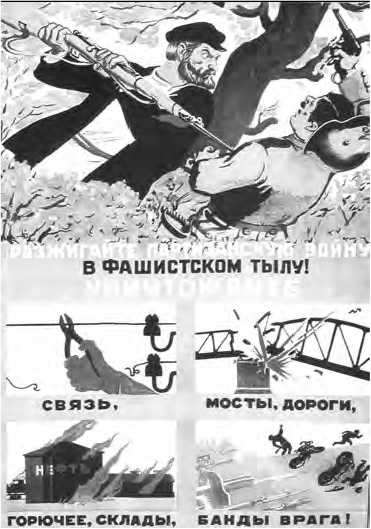
Плакат А. А. Кокорекина «Разжигайте партизанскую войну в фашистском тылу! Уничтожайте связь, мосты, дороги, горючее, склады, банды врага!» 1944 г.
Партизанские резервы стали своеобразной формой организации и добровольного вовлечения населения в вооруженную борьбу. Поэтому в партизанских зонах обычным явлением было вступление в отряд целыми деревнями. «Мы имеем примеры коллективной подачи заявлений о вступлении в партизанские отряды целых деревень», – отмечал в своем выступлении на февральском пленуме ЦК КП(б)Б секретарь Вилейского подпольного обкома партии И. Ф. Климов[282].

Жители оккупированных территорий уходят в партизаны

Занятия по изучению минного дела. Бригада имени Молотова Пинского соединения
Документы свидетельствуют, что практически во всех партизанских соединениях Беларуси с невооруженным партизанским резервом проводилась систематическая боевая и политическая учеба, их привлекали к несению караульной службы и охране населенных пунктов, строительству партизанских укреплений и т. д.[283] Как видно из приказа командира бригады «Железняк» Минской области, программа боевой подготовки резервов была рассчитана на месяц и включала строевую подготовку – 4 часа, политподготовку – 8 часов, караульную службу – 6, материальную часть оружия – 4, стрелковую подготовку -12, тактическую подготовку – 48, маскировочное дело – 4, фортификацию – 12, борьбу против техники противника – 6 часов[284]. Скрытые партизанские резервы создавались также и в населенных пунктах, находившихся под контролем врага. Если обстановка не позволяла наладить учебу, резервисты по возможности выходили в партизанскую зону, где и проходило их военное обучение.
На протяжении 1943 г. из скрытых партизанских резервов в ряды партизан вступили около 84 тысяч человек, что составляет почти 86 % всего пополнения[285]. Несмотря на это, за счет непрерывного восполнения партизанский резерв к началу 1944 г. составлял свыше 100 тысяч человек. Одним из факторов, сдерживающих рост партизанских рядов, был недостаток оружия и боеприпасов. Поэтому их поиск и добыча являлись важнейшей задачей как партизан, так и резервистов.
Из других важных задач, стоящих перед резервистами, было оказание максимальной помощи партизанам продовольствием, одеждой, срыв политических и экономических мероприятий врага.
Росту партизанских формирований способствовал приток большого количества нового пополнения из городов и районных центров республики по направлению действовавших там подпольных организаций. Существенной причиной ухода подпольщиков из города в лес целыми семьями были участившиеся провалы и непосредственная угроза ареста германскими спецслужбами, которые, попав на след подполья, использовали все возможные способы, чтобы сломить сопротивление патриотов. Обычными были расстрелы, истязания и пытки в нацистских застенках.

Занятия по стрелковому делу в одном из партизанских отрядов Брестского соединения
Второй причиной были угон молодежи и другого трудоспособного населения в Германию, принудительный труд, террор и насилие в отношении мирных жителей, мобилизации мужчин в полицию. Сказывались и победы Красной Армии на фронтах, разъяснительная и пропагандистская работа партизан и подпольных органов среди населения.

Политрук 1-й роты партизанского отряда «Искра» бригады «Разгром» Г. И. Белов читает партизанам сводку Совинформбюро. Осень 1943 г.
Важную роль в росте партизанских отрядов и их организационно-боевом укреплении играли кадры, засылаемые на оккупированную территорию из-за линии фронта. Они проходили специальную подготовку в советском тылу. В спецшколе ЦШПД обучались партийные и комсомольские работники, командно-политические кадры, инструктора минно-подрывного дела, радисты и подрывники. С апреля 1943 г. на территорию Беларуси было направлено 202 выпускника Центральной школы подготовки партизанских кадров. Спецшкола при БШПД к осени 1943 г. подготовила и направила в тыл врага 110 командиров отрядов и групп, 88 инструкторов минно-подрывного дела, 163 подрывника и других специалистов – всего около 600 человек. Занимались подготовкой партизанских кадров для Беларуси и другие школы, учебные пункты, инструкторские группы. В течение 1943 г. БШПД направил в 13 отрядов 111 организаторских и диверсионных групп численностью более 1900 человек, что составило около 2 % всего пополнения, поступившего в партизанские отряды за год.
Всего с октября 1942 г. по декабрь 1943 г. в оккупированные районы областей Беларуси из советского тыла прибыло 310 организаторов партизанского движения, 175 радистов, 97 заместителей командиров по разведке и разведчиков, 23 редактора газет, 58 наборщиков, 231 инструктор минно-подрывного дела, 1071 подрывник[286]. Как видно из приведенных данных, наиболее востребованной категорией были инструкторы минно-подрывного дела и подрывники.
Победы Красной Армии на фронтах, активная боевая и политическая работа партизан и подпольщиков по разложению вооруженных формирований врага способствовали тому, что в 1943 г. начался активный переход на сторону партизан служащих антисоветских военно-полицейских формирований. «После разгрома гитлеровцев под Сталинградом наша работа по разложению гитлеровских формирований стала значительно легче. К нам стали приходить полицейские и власовцы целыми подразделениями», – вспоминал впоследствии командир Пинского партизанского соединения Герой Советского Союза В. 3. Корж[287]. Так, в феврале 1943 г. на сторону партизан почти в полном составе перешли два батальона, специально созданные для борьбы с партизанами: 53-й полицейский батальон и 825-й волжско-татарский легион. Первым на сторону партизан перешел 53-й батальон. В ряде немецких и партизанских документов он еще называется «украинским». Он насчитывал 331 человека и дислоцировался в военном городке Пашково под Могилевом. Через свою агентуру партизаны бригады № 6 Могилевской военно-оперативной группы (ВОГ) установили связь с группой солдат и офицеров батальона и договорились о совместном разгроме гарнизона и переходе в партизаны[288]. Как видно из этого документа, в результате операции уничтожены 45 офицеров и около 20 унтер-офицеров и солдат. Среди убитых находился майор Гротт, назначенный на должность командира полка, который он должен был сформировать на базе 53-го батальона, два капитана, предназначавшиеся на должности командиров батальонов вновь сформированного полка, а также обер-лейтенант, исполняющий должность командира батальона. Разоружено и взято в плен 250 человек, т. е. целиком 53-й батальон, кроме тех, кто отсутствовал[289]. Вне гарнизона (в командировках) находился 81 человек[290].
Через неделю после перехода к партизанам 53-го батальона в г. Витебск прибыл сформированный в Польше из военнопленных татар 825-й батальон волжско-татарского легиона. Известно, что еще в период формирования батальона среди его состава велась подпольная работа, которой руководил известный татарский писатель Муса Джалиль. Поэтому не случайно, что подпольщики батальона быстро установили связь с партизанами и 25 февраля 1943 г. свыше 900 солдат батальона, уничтожив немецких офицеров и захватив три 45-мм орудия, большое количество пулеметов, автоматов, винтовок, патронов, с лошадьми и полевыми кухнями перешли на сторону партизан. Личный состав батальона влился в состав 1-й Белорусской и 1-й Витебской партизанских бригад[291]. 6 июля 1943 г. в партизанскую бригаду Н. В. Уткина с полным вооружением (3 станковых, 11 ручных пулеметов, 11 автоматов и 150 винтовок) прибыла рота Русской национальной народной армии (РННА). На ее базе был создан партизанский отряд, командиром которого был назначен бывший командир этой роты[292].

Командир партизанского отряда генерал-майор В. 3. Корж (стоит 3-й слева), секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б А. Е. Клещёв (стоит 2-й слева), первый секретарь ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин (стоит 4-й слева) с группой партизан
Огромный резонанс имел переход на сторону белорусских партизан бригады СС под командованием В. В. Гиль-Родионова. 17 августа 1943 г. по приказу ее командира и по предварительной договоренности с командованием партизанской бригады «Железняк» бригада с полным вооружением, средствами связи и передвижения перешла на сторону партизан. Понимая политическое значение этого факта, Москвой было принято решение создать на ее основе 1-ю антифашистскую партизанскую бригаду. Командиром новой бригады был утвержден В. В. Гиль-Родионов. К концу августа 1943 г. в состав бригады входило 5 стрелковых отрядов, рота автоматчиков, рота связи, артиллерийская батарея, саперно-подрывной отряд. В сентябре 1943 г. из числа местных жителей Логойского, Плещеницкого и Смолевичского районов образован учебно-резервный батальон (9-й отряд), а в январе 1944 г. -10-й отряд. В боях с карателями в апреле-мае 1944 г. бригада понесла огромные потери в личном составе. Погибли в боях 1026 человек, в том числе ее командир
В. В. Гиль-Родионов. Перестали существовать 5 отрядов (5, 6, 7, 8, 10-й) и рота связи. На день соединения с Красной Армией в составе бригады осталось 4 отряда общей численностью 422 партизана[293].
Документальные материалы показывают, что на протяжении 1943 г. из различного рода вражеских формирований осуществлялся постоянный переход на сторону партизан групп, подразделений и отдельных лиц. Как правило, это были бывшие военнопленные, те, кто силой обстоятельств были втянуты в так называемые «добровольческие» и полицейские части, опасаясь голодной смерти в концлагерях, с тайной надеждой перейти потом на сторону партизан или Красной Армии. Всего в течение указанного года в партизанские отряды Беларуси влилось около 12 тысяч человек, причем в составе больших групп [294].

Партизаны разных национальностей из 1-й Минской бригады. 1943 г. В центре сидит комбриг Н. X. Бадан
В 1943–1944 гг. значительно усилился переход на сторону партизан и военнослужащих немецких воинских частей, а также военнослужащих воинских частей стран-сателлитов. Воинами-антифашиста-ми были словаки, чехи, сербы, венгры, австрийцы, французы, бельгийцы, голландцы, немцы. Из зарубежных антифашистов в ряде партизанских формирований создавались интернациональные подразделения (отделения, группы, взводы, роты, а также отряды). Так, в отряде имени М. И. Кутузова бригады «Смерть фашизму» Минской области командирами отделений были словак Войтех Фибих и бельгиец Вилит Фенекссергейм[295]. Интернациональные взводы из чехов и словаков действовали в партизанском отряде С. А. Ваупшасова, «Коммунар», «Дяди Коли», в отряде «Грозный» партизанской бригады «Штурмовая» Минской области [296]. В сентябре 1943 г. на базе инициативной группы словака Франца Горака был создан партизанский отряд «Спартак», командиром которого был назначен Ф. Горак. На день соединения с Красной Армией в июне 1943 г. отряд насчитывал 110 партизан[297]. Небходимо отметить, что 48 чехов и словаков занимали в партизанских отрядах командные посты.
Активно действовали польские партизанские подразделения (группы, взводы, роты, отряды), созданные в ряде партизанских формирований Барановичской, Брестской и Пинской областей. Так, в Пинскую партизанскую бригаду с лета 1943 г. входил польский партизанский отряд имени Т. Костюшко, а в бригаду имени В. В. Куйбышева – Логишинский польский партизанский отряд. По данным БШПД, в рядах белорусских партизан сражались свыше 3 тысяч поляков, более 300 словаков и около 100 чехов, более 200 югославов, около 100 немецких антифашистов[298].
Однако основной приток пополнения партизанских отрядов Беларуси в 1943–1944 гг. составляло местное население: жители партизанских зон, а также городов и поселков. В рядах партизан сражались рабочие, крестьяне, интеллигенция Беларуси, добровольцы из советского тыла, бывшие военнослужащие, оставшиеся в силу обстоятельств на временно оккупированной территории, коммунисты, комсомольцы и беспартийные, мужчины и женщины, люди самых различных возрастов, в том числе старики и дети, представители разных национальностей. Рядом со взрослыми сражались юные патриоты – пионеры и школьники.
В Беларуси знают и чтят имена прославленного партизана Гражданской войны 99-летнего В. И. Талаша (деда Талаша), награжденного орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, его земляка партизанского разведчика 65-летнего П. Е. Емельянова, а также бойца 278-го партизанского отряда Могилевской области участника трех революций и Гражданской войны Ф. Н. Михолапа. Послевоенные поколения белорусской молодежи воспитываются на примерах подвига Марата Казея, впоследствии за совершенный подвиг удостоенного (посмертно) звания Героя Советского Союза. 13-летним подростком он в ноябре 1942 г. вступил в партизанский отряд имени 25-летия Октября Минской области. По заданию командования Марат часто бывал в деревнях, собирал сведения о противнике, участвовал в боевых операциях. 11 мая 1944 г. при выполнении задания он был окружен врагами. Когда кончились патроны, он последней гранатой взорвал себя и несколько приблизившихся к нему гитлеровцев.
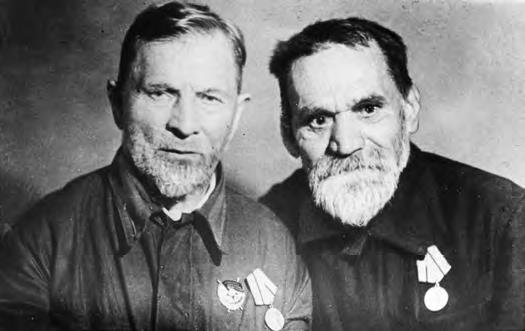
Партизаны соединения Южной зоны Минской области: 99-летний В. И. Талаш (слева) и Н. М. Шешко. 1943 г.
По данным БШПД, на 1 июля 1943 г. рабочие и крестьяне составляли более половины партизан, служащие, в том числе представители интеллигенции (учителя, медработники, агрономы, партийные, советские, инженерно-технические работники), – около одной четвертой части, остальные были военнослужащими, учащимися. По этим же данным, в 1943 г. 12,8 % партизан были в возрасте до 20 лет, 80 % – от 20 до 40 и 7,8 % – свыше 40 лет[299].
93,3 % белорусских партизан в 1943 г. составляли мужчины и 6,7 % – женщины, которые наравне с мужчинами стойко переносили все трудности походной жизни. В партизанском движении республики наряду с белорусами (65,2 %) активное участие принимали русские (25 %), украинцы (3,8 %), сыны и дочери других советских народов.
Бурный рост партизанских сил в 1943 г., необходимость повышения эффективности их боевых действий потребовали усиления работы по совершенствованию структуры партизанских формирований и управления ими, а также по материально-техническому обеспечению и военному обучению их личного состава.
Наиболее приемлемой и гибкой формой объединения отрядов уже на первом этапе борьбы была признана партизанская бригада. На протяжении 1943 г. на территории БССР было создано 131 такое формирование. Кроме того, за это время 5 бригад прибыли из других республик, а 32 – соединились с Красной Армией, 13 – прекратили существование по другим причинам. Общее количество бригад на территории республики к концу года, таким образом, составило 144. Действовали они во всех областях[300].

Командир 1-й Минской партизанской бригады Н. X. Бадан вручает переходящее Красное Знамя командиру отряда имени газеты «Правда» П. И. Иваненко. 1943 г.
Как правило, в каждую из них входило несколько отрядов. Некоторые бригады состояли из батальонов. Во главе бригады, отряда стояли командир и комиссар, оперативную работу вел штаб. Отряды делились на роты, взводы, отделения. В бригадах и отрядах имелись подразделения: комендантские и связи, артиллерийские и разведывательные, диверсионные группы, медицинская служба. Общая тенденция объединения партизанских отрядов в бригады не исключала и наличия определенного числа отдельно действовавших отрядов и групп.
В мае 1943 г. Могилевский подпольный обком партии принял решение о реорганизации бригад в самостоятельные отряды, подчинявшиеся непосредственно обкому. В виде исключения ряд бригад продолжал действовать в прежнем составе. Однако быстрый рост личного состава в отрядах привел к необходимости дальнейшего изменения структуры партизанских сил. Крупные отряды были развернуты в 15, 208,121-й и другие партизанские полки. Партизанские полки при этом по составу и структуре управления имели много общего с бригадой. Входившие в них батальоны, как и отряды, могли самостоятельно решать боевые задачи. В то же время они являлись частями целого, подчинялись единому командованию, в своих действиях исходили из общих задач полка[301].
Для успешного решения наиболее крупных боевых задач в Беларуси, как и других районах, оформились партизанские соединения под единым командованием как в масштабах целых областей, так и отдельных районов или групп районов (зон) внутри областей. В ноябре 1942 г. было сформировано Пинское и положено начало образованию Гомельского соединения, в марте 1943 г. создано Полесское, в ап реле-августе – Могилевское, Барановичское, Брестское, Вилейское и Белостокское областные соединения партизан. Областное соединение на Витебщине не создавалось. Здесь действовали бригады, закрепленные за каждым районом и руководимые областным комитетом партии.
Руководили соединениями непосредственно подпольные обкомы КП(б)Б, а возглавляли их, как правило, секретари или члены обкомов. Оперативное руководство областными соединениями осуществляли их штабы, они являлись рабочими военно-боевыми органами обкомов партии.

Прием в партию лучших партизан на заседании Червенского подпольного РК КП(б)Б. 1943 г.
В некоторых областях создавались зональные соединения и штабы, осуществлявшие управление группами отрядов и бригад той или иной зоны. В Минской области, например, кроме соединения, возглавляемого В. И. Козловым, действовали региональные соединения Слуцкой и Борисовско-Бегомльской зон.
Партизанское соединение Слуцкой зоны (командиры – Ф. Ф. Капуста, Н. А. Шестопалов) было образовано по указанию начальника ЦШПД П. К. Пономаренко Слуцким межрайкомом КП(б)Б. В августе 1943 г. соединение Слуцкой зоны было расформировано. Входившие в его состав бригады влились в Минское партизанское соединение, а часть бойцов была передана Белостокскому соединению.
Организация партизанского соединения Борисовско-Бегомльской зоны во главе с секретарем Минского подпольного обкома КП(б)Б Р. Н. Мачульским в северо-восточных районах Минской области завершилась в августе 1943 г. Руководство партизанскими формированиями
Минской (Червенской) зоны осуществлял Минский межрайонный подпольный комитет КП(б)Б.
Могилевский обком летом 1943 г. образовал при подпольных райкомах КП(б)Б военно-оперативные группы – районные партизанские соединения, руководство которыми возглавляли первые секретари РК КП(б)Б, командиры и начальники штабов ВОГ[302].
В мае 1943 г. для улучшения руководства партизанскими формированиями южных районов Полесской области было создано соединение партизанских отрядов Южно-Припятской зоны.

В. Е. Лобанок
Под руководством Барановичского обкома партии весной 1943 г. были образованы Ивенецкое, Лидское, Щучинское партизанские соединения, в октябре – Столбцовское. Их возглавляли уполномоченные ЦК КП(б)Б и БШПД, члены обкома Г. А. Сидорок, Е. Д. Гапеев, С. П. Шупеня и В. 3. Царюк. В южной группе районов Барановичской области с октября стало действовать соединение под командованием уполномоченного ЦК КП(б)Б и БШПД, секретаря обкома партии Ф. А. Баранова.
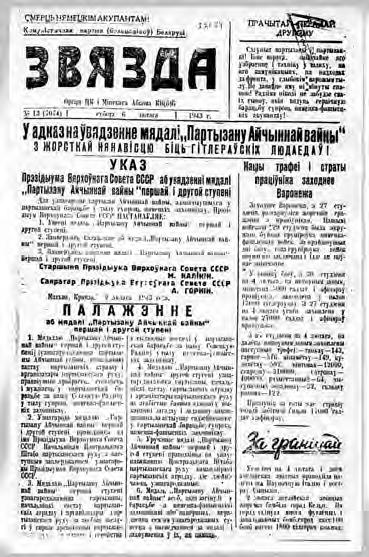
Номер газеты «Звязда», в котором был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени
В ходе развития партизанской борьбы, с учетом обстановки и задач, по указанию вышестоящих органов или по инициативе на местах, создавались временные объединения отрядов и бригад. Примером такого объединения является партизанское соединение, в которое вошли 15 бригад и один полк общим количеством в 17 тысяч бойцов, образованное по приказу ЦШПД в конце 1943 г. с целью удержания Полоцко-Аепельской зоны как плацдарма для намечавшейся высадки наших воздушно-десантных войск. Однако из-за непогоды такая высадка не состоялась. Тем не менее Полоцко-Лепельское соединение продолжало действовать в своем районе под руководством оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД, созданной по приказу ЦШПД во главе с уполномоченным ЦК КП(б)Б и БШПД Героем Советского Союза В. Е. Лобанком[303].
На командно-политических должностях в отрядах и бригадах находились представители многих народов нашей страны. По данным БШПД, на 1 июля 1943 г. в руководящем составе отрядов и бригад было 52,1 % белорусов, 38,3 % русских, 6,4 % украинцев и 3,2 % представителей других наций и народностей Советского Союза [304].
Боевая зрелость командных и политических кадров партизан нашла отражение в присвоении им воинских званий. Офицерские звания присваивались через военные советы фронтов по представлению БШПД в соответствии с занимаемой должностью и боевыми заслугами, а с июня 1943 г. – через ЦШПД. В 1943 г. офицерские звания были присвоены 725 командирам и политработникам партизанских формирований Беларуси, из них 55 человек получили звание младшего лейтенанта, 148 – лейтенанта, 231 – старшего лейтенанта, 170 – капитана,47 – майора, 29 – подполковника, 35 – полковника. 16 сентября 1943 г. десяти наиболее заслуженным партизанским командирам – И. М. Дикану, Ф. Ф. Дубровскому, Ф. Ф. Капусте, И. М. Карловичу, А. Е. Клещёву, И. П. Кожару, В. И. Козлову, В. 3. Коржу, Н. Ф. Королёву, В. Е. Чернышёву – СНК СССР присвоил звание генерал-майора[305].

Первомайская демонстрация партизан 1-й Минской бригады около д. Уголец Червенского района
Присвоение воинских званий младшему комсоставу происходило непосредственно в тылу врага приказами командиров партизанских бригад или соединений. Так, штаб Минского соединения 11 июля 1943 г. присвоил звания старшин, старших сержантов, сержантов и младших сержантов 194 бойцам. В бригаде имени К. К. Рокоссовского Вилейской области к августу присвоили звание младших командиров 150 партизанам, 65 человек аттестовали на звания среднего комсостава.
Присвоение воинских званий командирам, политработникам и бойцам способствовало укреплению воинского порядка и дисциплины, повышению боеспособности партизан. Важным морально-психологическим стимулом было награждение отличившихся партизан орденами и медалями СССР. В 1943 г. государственных наград были удостоены 8628 партизан Беларуси, из них медалью «Партизан Отечественной войны» – 7490 человек. В 1944 г. этой же медалью были награждены 44 574 человека, орденами и медалями СССР – 6723 человека. Всего за период с 1941 по 1946 г. было награждено 87 619 партизан Беларуси. Звания Героя Советского Союза удостоены 70 человек; ордена Ленина – 165 человек; ордена Красного Знамени – 1719 человек; ордена Кутузова I степени – 3 человека; ордена Суворова I степени – 5 человек; ордена Кутузова II степени – 3 человека, ордена Суворова II степени – 10 человек, ордена Трудового Красного Знамени – 73 человека; ордена Красной Звезды – 4775 человек; Знака Почета – 123 человека; ордена Славы III степени – 111 человек; медалей «За отвагу» – 418, «За боевые заслуги» -252, «За трудовое отличие» – 39 человек; «Партизану Отечественной войны» I степени – 36 014; «Партизану Отечественной войны» II степени – 42 682 человека[306].
Условия борьбы в тылу врага требовали от командиров и комиссаров, всего командно-политического состава отрядов и бригад инициативы, творческого подхода к управлению партизанскими формированиями и решению боевых задач, максимального использования накопленного опыта, самоотверженности и мужества в бою. Командно-политические кадры партизан республики в своем большинстве обладали этими качествами.
Удары по коммуникациям. Выше мы отмечали, что боевая деятельность партизан на коммуникациях противника являлась важнейшей задачей партизан с первых дней войны. Такой она оставалась и в последующие периоды. Основной поток военных грузов противника на фронт шел по железным дорогам, общая эксплуатационная длина которых по данным на 1 января 1943 г. достигала 34 979 км, из них на территории Беларуси в подчинении генеральной дирекции железных дорог «Минск» находилось 5056 км эксплуатируемой широкой колеи, что составляло 14,5 % общей протяженности дорог. По ним главным образом осуществлялось снабжение войск группы армий «Центр»[307].
Огромная протяженность фронтов и их глубокая удаленность от баз империи, невозможность решить проблему снабжения войск с помощью автотранспорта, на который делалась ставка при разработке плана «Барбаросса», вынудило военно-политическое руководство Германии уделять особое внимание железным дорогам как наиболее важному виду транспорта на Востоке[308].
В свою очередь, подпольные партийные органы, советские партизаны и их руководство в Москве понимали, какое значение имели коммуникации для вражеской армии, особенно железнодорожные и линии связи. Поэтому одной из главных задач, стоящих перед партизанами, была активизация боевой и диверсионной деятельности на коммуникациях врага. В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 095 от 23 февраля 1943 г. эта задача вновь конкретизировалась: «Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, подвоз оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские склады, нападать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать наши села и города, помогать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной Армии»[309].
В январе – начале февраля 1943 г. проводились одновременно две крупные операции против групп армии «Центр» и «Север». К участию в них привлекались войска Калининского, Западного, Центрального и Брянского фронтов. В соответствии с замыслом Ставки ВГК на операцию ЦШПД был разработан план мероприятий по усилению боевой и диверсионной деятельности партизанских формирований, действовавших перед указанными фронтами, на февраль 1943 г., выводу из строя 14 железнодорожных мостов и нескольких станций. Каждой бригаде и отряду были определены конкретные участки железных и шоссейных дорог, на которых необходимо было проводить диверсии. Например, 05.01.1943 г. было вручено письменное боевое задание командиру диверсионно-организаторской группы В. Я. Сарнову на выход и проведение боевой операции в районе г. Орши[310]. 08.01.1943 г. П. К. Пономаренко утвердил разработанное оперативным отделом ЦШПД боевое задание группе партизанских отрядов С. Г. Жунина[311]. Это задание было передано командиру «Объединенных отрядов Борисовского оперцентра» С. Г. Жунину и комиссару Д. А. Смагину по радио через день. «Вами летом 1942 г., – говорилось в радиограмме, – была разгромлена станция Славное. Учтя опыт этой операции, разработайте и проведите операцию по разгрому железнодорожного перегона по вашему выбору, на участке железной дороги Борисов-Орша, с целью прекращения движения противника на более длительное время»[312]. В радиограмме были также даны рекомендации тактического порядка: необходимость соблюдения тайны подготовки; внезапный, одновременный удар с разных направлений несколькими отрядами, прикрытие своего тыла, флангов засадами, особенно в направлениях вероятного появления подразделений противника; отвлекающие действия мелких отрядов на других участках[313].
Задания по активизации боевых действий на железнодорожных коммуникациях содержались во всех плановых документах развития партизанского движения по областям, районам, соединениям, бригадам и отрядам. Зимой 1943 г. БШПД приступил к разработке единого плана боевых действий партизанских сил Беларуси на вражеских коммуникациях. Этот план 21.04.1943 г. был утвержден начальником БШПД П. 3. Калининым под кодовым названием «Гранит»[314]. Операцию планировали начать ориентировочно с 10 мая 1943 г. Для подготовки и проведения ее в районы сосредоточения партизанских сил БШПД направил офицеров связи и инструкторов-минеров с задачей обучения бойцов и командиров подрывному делу и организации групп подрывников. В отрядах создавались новые диверсионные группы, взводы, роты. С марта Белорусский штаб приступил к заброске в тыл врага оружия, боеприпасов, взрывчатки. Для этого использовались авиация дальнего действия и планерные части. Плохие метеоусловия не позволили выполнить план заброски в полном масштабе. Всего с 20 апреля по 6 июня партизанам республики было доставлено 125,5 ттола, 23 170 мин, 465 противотанковых ружей и 68,4 тысяч патронов к ним, а также много другого оружия и средств боевого обеспечения[315].
Благодаря ряду мероприятий, проводимых по обе стороны фронта, боевая и диверсионная деятельность, направленная на дезорганизацию движения на железных дорогах, в 1943 г. увеличивалась во всё возрастающих масштабах. Об этом свидетельствуют как документы партизан, так и противника. Как видно из отчетных документов БШПД, за период с ноября 1942 г. и до апреля 1943 г. белорусские партизаны пустили под откос 871 эшелон с живой силой и техникой, т. е. почти в 4 раза больше, чем за первый год войны[316]. В последующем количество крушений поездов постоянно возрастало. Так, если в апреле 1943 г. партизаны Беларуси пустили под откос 185 вражеских поездов, то в мае – уже 447 эшелонов и 2 бронепоезда, в июне – 598 эшелонов и 3 бронепоезда. По данным транспортной службы группы армий «Центр», только в июне 1943 г. партизаны 746 раз прерывали движение на железных дорогах тылового района, в том числе 588 раз на срок до 12 часов, 111 раз – до 24 часов и 44 раза на срок свыше суток. При этом было выведено из строя 44 железнодорожных моста, уничтожено и повреждено 298 паровозов и 1223 вагона[317]. Обратим внимание на тот факт, что эти диверсии совершены в период, когда гитлеровцы усиленно готовились к наступлению на Курской дуге, спешно перебрасывая к фронту войска, боевую технику, боеприпасы, горючее и прочие материальные средства. Значение ударов белорусских партизан еще больше возросло в июле 1943 г., когда в разгар ожесточенных боев на Курской дуге был пущен под откос 761 эшелон и 2 бронепоезда противника[318].
Повышению эффективности боевой деятельности партизан на коммуникациях способствовало применение партизанами противотанковых ружей, новых минноподрывных средств (магнитных мин), мин замедленного действия (МЗД) и др.

Орудие партизанского отряда имени Щорса Брестского соединения. Справа – командир орудия А. Ф. Шам
С 1942 г. на вооружение партизан стали поступать ПТР – противотанковые ружья, из которых обстреливались паровозы и техника противника[319]. Можно привести много примеров успешного применения партизанами противотанковых ружей. Отдельные расчеты ПТР имели на своем счету по несколько выведенных из строя паровозов. Так, партизан отряда имени А. Невского 1-й Дриссенской партизанской бригады колхозник из д. Быки Дриссенского района Семен Стефанович Быковский 20 и 21 июля 1943 г. удачными выстрелами своего ПТРа вывел из строя два паровоза противника. На счету партизана отряда имени А. В. Суворова той же бригады, крестьянина из д. Дубинино Ивана Ивановича Николаенко было 7 паровозов противника[320]. По пять паровозов подбили из противотанковых ружей партизан отряда имени П. Н. Литвинова бригады имени А. К. Флегонтова Павел Исакович Мицкевич, житель д. Гребенец Червенского района, и Николай Тарасович Калека из д. Загорье Смолевичского района Минской области[321].
Всего на вооружении белорусских партизан было около 1400 противотанковых ружей, надежно служивших им для нанесения ущерба врагу[322].
Особо важное значение для срыва перевозок противника имели операции по подрыву железнодорожных и шоссейных мостов. По данным БШПД, за период с ноября 1942 по март 1943 г. партизаны Беларуси уничтожили 49, за май, июнь, июль 1943 г. – 66, а всего за три года борьбы в тылу врага они взорвали и сожгли 819 железнодорожных и 4710 других мостов[323]. Эти данные, если учесть мосты, взорванные в 1941 и в апреле-июле 1944 г., близко сходятся с данными имперской дирекции путей сообщения «Минск» за период с 1 января 1942 по 31 марта 1944 г., где указывается, что партизанами в 1942 г. было взорвано 179 мостов, в 1943 г. – 356 и с 1 января по 31 марта 1944 г. – 29 мостов, а всего за отчетный период – 564 железнодорожных моста[324].
Весьма эффективными в практике использования партизанских сил были нападения на железнодорожные станции, что грозило, в случае их полного или частичного разгрома, остановке движения на всей линии. Для их успешного осуществления требовались значительные партизанские силы, а также тщательная подготовка. Гитлеровцы имели на станциях хорошо оборудованные и вооруженные гарнизоны. В качестве примера успешного осуществления такой операции может послужить операция партизанского полка «Тринадцать» (командир – С. В. Гришин) по одновременному разгрому вражеских гарнизонов, охранявших станции Чаусы и Веремейки на железнодорожной линии Могилев-Кричев в ночь на 14 мая 1943 г. В час ночи по общему сигналу 1-й батальон (командир Н. И. Москвин) начал атаку на гарнизон станции Чаусы. В течение 40 минут партизаны заняли вокзал и другие опорные пункты врага. Бойцы диверсионных групп произвели подрыв стрелок, водонапорной башни, вывели из строя телефонно-телеграфную связь. К утру вражеский гарнизон перестал существовать. Противник потерял 78 солдат убитыми и 8 пленными. Партизаны разрушили вокзал, караульное помещение, взорвали бензохранилище, склад с артиллерийскими снарядами, сожгли склад прессованного сена и прессовальную машину. Было уничтожено также 4 склада с зерном, 6 вагонов со снаряжением, 9 автомашин, 3 мотоцикла, захвачено много оружия и обмундирования. Одновременно 3-й батальон полка (командир П. И. Звездаев) атаковал станцию Веремейки. Операция также прошла успешно. Были уничтожены 2 дзота, операционное отделение станции, телефонно-телеграфная связь, сожжено караульное помещение, во многих местах подорваны пути и переводные стрелки, убиты 13 гитлеровцев.
20 июня 1943 г. партизаны 64-й бригады имени В. П. Чкалова (командир Н. Н. Розов) разгромили гарнизон станции Фаличи на ветке Слуцк-Осиповичи, вывели из строя входные стрелки, взорвали железнодорожный мост, на протяжении 0,5 км повредили полотно дороги. В ночь на 25 июля 1943 г. отряд имени А. В. Суворова (командир В. Г. Карась) Полесской области совершил налет на станцию Авраамовская, ветки Хойники-Василевичи. Партизаны разбили гарнизон, взяли в плен коменданта, захватили транспорт и склад с продовольствием. Отряд пополнился 136 сербами, насильственно мобилизованными гитлеровцами для ремонтных работ[325]. Кроме Авраамовской, в июле-августе 1943 г. партизанами Беларуси было произведено 8 нападений на станции, в большей части успешно проведенных (Бостынь, Дятловичи, Коханово, Крулевщизна, Несета, Янов-Полесский), 6 из них приходятся на южное направление.
Поскольку на железных дорогах противник использовал паровую тягу, то для нормальной работы паровозов требовалось беспрепятственное снабжение их водой на станциях и в других линейных пунктах. Поэтому партизанам и подпольщикам ставились задачи по выведению из строя водокачек и других пунктов водоснабжения. С этой целью ЦШПД был разработан специальный план «Пустыня», по которому осенью 1943 г. партизанами на всех линиях было разрушено 43 водокачки [326].
В ночь на 30 июля 1943 г. бригада имени К. Е. Ворошилова (командир М. П. Онипко) Гомельской области провела смелую операцию по подрыву водокачки на станции Прибор, между Речицей и Гомель, где немцы, опасаясь налетов советской авиации на Гомель и Речицу, производили заправку эшелонов водой. Диверсионная группа Николая Крючкова, предварительно тщательно разведав подходы, приняла решение действовать с наступлением сумерек. Ночью, преодолев ползком открытое расстояние, партизаны проникли в здание, быстро установили пятикилограммовую мину и подожгли бикфордов шнур, а затем выбежали из здания. Когда часовой произвел выстрел, было уже поздно. Здание взлетело в воздух[327].
Активизация деятельности партизан на коммуникациях врага была одной из главных задач движения. Белорусские историки установили, что в среднем партизаны ежедневно производили 36 диверсий, 32 из которых задерживали движение[328]. Эффективность боевых действий на железнодорожных коммуникациях группы армий «Центр» в направлении фронта прослеживается следующими показателями: в апреле 1943 г. прошло 1033, в августе -991, в ноябре – 798 эшелонов. Немцы вынуждены были значительно (в разы) увеличить количество восстановительных поездов (на железнодорожной линии «Минск» весной 1943 г. было задействовано 33 восстановительных поезда, летом их стало 78)[329].
7 июля 1943 г. партизаны Полесского соединения совершили нападение на эшелон противника, идущего на восток. В результате было убито 150 немецких солдат и офицеров, партизаны потеряли 23 человека, в том числе командира соединения Ф. М. Языковича[330].
Не имея достаточно минно-подрывных средств, партизаны широко использовали простые способы разрушения железнодорожного полотна. Активное участие в таких операциях принимало местное население. Так, узнав о намерении гитлеровцев восстановить движение по линии Орша-Лепель, партизаны совместно с жителями Лепельского и Чашникского районов разрушили железнодорожное полотно на протяжении 40 км. В операции участвовали до 3000 местных жителей. Восстановить движение на этой линии противнику так и не удалось[331].
К лету 1943 г. партизаны вывели из строя почти все узкоколейки. В отчете хозяйственного отдела генерального комиссариата «Белоруссия» от 8 июня 1943 г. отмечалось, что в связи с нападениями партизан движение по узкоколейкам сильно сократилось. И далее предсказывалось: «Надо рассчитывать в ближайшее время на полный выход из строя узкоколейного сообщения»[332].
Опыт операции «Гранит» показал, что при четкой организации боевых действий, соответствующем обеспечении отрядов взрывчаткой, оружием и боеприпасами можно полностью парализовать на определенное время работу вражеского транспорта. 24 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б принял постановление «О разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом “рельсовой войны”». Разработку плана операции под кодовым наименованием «Рельсовая война» осуществлял ЦШПД. Она велась с учетом стратегических замыслов и планов Ставки Верховного Главнокомандования на лето 1943 г. Наряду с партизанскими силами Беларуси к ней привлекались формирования Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей РСФСР и часть партизан Украины. К 9 июля разработка плана была закончена. 12 июля он был обсужден и одобрен Ставкой Верховного Главнокомандования. Впоследствии операция «Рельсовая война» объединила в себе три этапа: 1-й этап – с 3 августа по 15 сентября 1943 г.; 2-й этап – операция «Концерт» – с 19 сентября по 31 октября 1943 г.; 3-й этап – с 20 по 29 июня 1944 г., в ходе стратегической наступательной операции «Багратион».
14 июля ЦШПД направил в штабы республиканских и областных формирований специальный приказ «О партизанской “рельсовой войне” на коммуникациях врага». В нем указывалось, что огромный размах вооруженной борьбы в тылу оккупантов позволяет наносить массированные удары по железным дорогам и одновременно с другими диверсиями проводить систематическое и повсеместное разрушение рельсов.
В оперативных приказах, направляемых на места, ЦШПД и БШПД определяли отрядам и бригадам конкретные участки железных дорог и количество рельсов, подлежавших подрыву, ставили задачи по выводу из строя водоснабжения на магистралях. В целях достижения внезапности удара приказ об операции «Рельсовая война» и инструкции по технике подрыва было решено передать командованию отрядов и бригад через специальных офицеров связи ЦШПД, а саму операцию начать одновременно на всех основных коммуникациях по установленному сигналу в указанный заранее срок. Впоследствии действовать непрерывно: пока восстанавливается один участок, атаковать другой. На протяжении июля 1943 г. ЦШПД и БШПД, используя самолеты 101-го полка авиации дальнего действия, 1-й авиатранспортной дивизии Гражданского воздушного флота (ГВФ) и фронтовой авиации, осуществляли переброску в тыл врага людей и военных грузов. За период с 16 июля по 5 августа партизаны республики получили из советского тыла 144 т грузов, в том числе 36,5 т тола, 522 мины МЗД-5, 35 ПТР, взрыватели, капсюли-детонаторы, более 60 тыс. м бикфордова и 1,5 тыс. м детонирующего шнура, много других средств боевого обеспечения. В тыл врага с письменными приказами ЦШПД на проведение операции конкретными исполнителями самолетами прибыло 32 офицера связи, представителя ЦШПД[333].
Грузы авиацией были доставлены преимущественно партизанским формированиям центральных и восточных областей Беларуси.
Начиная с 20 июля в Москву начали поступать донесения с мест о готовности к выполнению боевой задачи. Наконец, 30 июля командирам и комиссарам партизанских формирований был передан по радио приказ ЦШПД о начале операции «Рельсовая война». Первый совместный удар должен быть нанесен 3 августа.
Диверсия в Осиповичах. Прежде чем продолжить рассказ о ходе и результатах «рельсовой войны», необходимо обратить внимание читателя на одно весьма примечательное событие, происшедшее на железнодорожном узле Осиповичи в ночь на 30 июля 1943 г., которому долгое время не уделялось достаточного внимания в историографии. Речь идет о самой крупной и результативной наземной транспортной диверсии Второй мировой войны, совершенной одним человеком.

Партизаны принимают груз, доставленный самолетом с Большой земли
Выше мы уже говорили о том, что, готовясь к операции «рельсовая война», партизаны и подпольщики Беларуси не прекращали наносить удары по наиболее уязвимым объектам противника, используя любую имеющуюся возможность. Такая возможность представилась осиповичскому подпольщику Ф. А. Крыловичу в ночь на 30 июля. Ему удалось прикрепить две магнитные мины на эшелон с горючим, который должен был отправиться в сторону Гомеля. Однако из-за подрыва партизанами пути состав был временно переведен на стоянку в Северный парк (его еще называют Могилевский), где уже находилось три эшелона. В результате взрыва и возникшего пожара, который мгновенно перебросился на соседние составы, начали взрываться снаряды и авиабомбы, находившиеся в одном из эшелонов. Это не позволило немцам ни оттащить составы, ни погасить буйство огня и взрывов, которое продолжалось более 10 часов, разрушая постройки и железнодорожные пути. Успеху этой операции во многом способствовал случай. Дело в том, что при использовании магнитных мин и мин замедленного действия подпольщики руководствовались тактикой ставить их на эшелоны, которые проходят или отходят из станции, с расчетом, чтобы взрыв произошел за ее пределами. Такой тактики придерживался и Федор Крылович. Однако жизнь внесла свои коррективы. После случившегося Ф. А. Крылович вынужден был уйти в партизанскую бригаду В. И. Ливенцева, на связи с которой он находился с сентября 1942 г., где и доложил предварительные результаты диверсии: уничтожены два паровоза, 8 цистерн с авиамаслом, 23–25 платформ с наполненными бензином бочками, 67 вагонов с авиабомбами, снарядами и минами, 12 вагонов с продовольствием, 15 платформ, на которых находились 5 танков типа «Тигр», 3 танка типа «Л-10», 7 бронемашин, кран для подачи угля. Кроме того, был разрушен угольный склад и повреждено 3 паровоза[334].

Ф. А. Крылович (слева) с друзьями-подпольщиками
Первые сведения о результатах этой диверсии мы находим в «Дневнике боевых действий оперативного отдела 203-й охранной дивизии», которая обеспечивала охрану станции. В конце дня 30 июля, когда ситуация на станции немного прояснилась, дежурный офицер записал в дневнике: «Около 2-х часов на станции
Осиповичи на железнодорожном составе с горючим взорвалась магнитная мина. В результате возникшего пожара сгорело 29 цистерн с бензином и 60 вагонов с боеприпасами и железнодорожный эшелон с автомобилями (техникой) и среди прочего четыре танка «Тигр». В результате взрывов боеприпасы разбросаны по всей территории. Срочно запрошены пиротехники для уничтожения разбросанных снарядов и бомб… 31.07.1943 прибыл один пиротехник с Минска и один с Могилева. По данным 550-й полевой комендатуры, потери 3–4 солдата убитыми и 27 солдат и 6 железнодорожных рабочих ранеными»[335].
Долгое время то, что произошло в Осиповичах в ночь на 30 июля 1943 г., оставалось в тени освещения событий первого этапа «рельсовой войны». И только после короткого упоминания об этой операции в книге Эйке Миддельдорфа «Тактика в русской кампании», которая была переиздана в Москве на русском языке в 1958 г., о ней стало известно советскому читателю. Автор книги, бывший офицер генерального штаба вермахта, среди причин поражения немецких войск летом 1943 г. отмечает активную деятельность советских партизан: «Действия русских партизан во время проведения крупных наступательных и оборонительных операций сильно затрудняли обеспечение немецких войск и проведение оперативного маневра… Крупного успеха добились партизаны также в июле 1943 года, когда ими на станции Осиповичи был уничтожен эшелон с горюче-смазочными материалами, два эшелона с боеприпасами и чрезвычайно ценный эшелон с танками «Тигр»[336]. Данная цитата из книги Миддельдорфа в 1961 г. была приведена в третьем томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» с уточнящим текстом: «Эшелон с танками был действительно ценным. Около 30 новых танков “Тигр” – столько, сколько выпускала этих машин в то время вся танковая промышленность Германии за один месяц, – было уничтожено подпольщиками и на фронт не попало»[337]. Даже из-за противоречивости имеющихся сведений трудно недооценить значение этой выдающейся диверсии. И боеприпасы и, особенно, танки «Тигр» были очень нужны в это время на фронте. Достаточно отметить, что во время Курской битвы один «Тигр» в среднем уничтожал 10 советских танков Т-34.
Активная диверсионная деятельность с использованием магнитных мин и других минно-подрывных средств осуществлялась во многих городах и населенных пунктах Беларуси. Только в Минске в период оккупации подпольщиками было осуществлено свыше 1500 диверсий. Здесь оккупанты чувствовали себя как на вулкане. В письме от 5 августа 1943 г. немецкий чиновник торгового общества «Восток» Э. Вестфаль следующим образом описывает обстановку в городе: «С партизанами приходится иметь дело даже в самом городе Минске. В последние месяцы много немцев застрелено прямо на улицах. Шоссе на Вильно из Минска непроезжее. На Барановичи – только при условии прикрытия танков и сильном эскорте. Четыре недели тому назад у меня сперли грузовик, больше того, шофер погрузил свою семью и уехал к партизанам. Это повседневные события. 22 июня, в торжественный день начала войны с Россией, в городском театре оказалась мина. Вечером она взорвалась, убито 30, ранено 100. Затем они взорвали электростанцию и паровой котел молокозавода… Мою хлебопекарню тоже пытались взорвать… В Минске бухает ежедневно. Ночью треск, как в окопах, иногда даже бьют орудия, а может быть, это рвутся проклятые мины. Их тут полно…»[338] Гитлеровцам на белорусской земле не было покоя ни днем, ни ночью. Об этом свидетельствует и судьба высшего фашистского чина в оккупированной Беларуси, генерального комиссара В. Кубе, нашедшего свою гибель 22 сентября 1943 г. от магнитной мины, установленной в кровати его спальни. Беспрерывное вооруженное давление партизан на противника, всё учащавшиеся диверсии и нападения, теракты, партизанская вездесущность обессиливали и выматывали оккупантов, подрывали их моральный дух, в конечном итоге явились весомым вкладом в достижение Победы.
Операция «Рельсовая война». В ночь на 3 августа 1943 г. около 74 тысяч партизан Беларуси нанесли мощный удар по железнодорожным линиям оккупантов. Сотни штурмовых групп атаковали доты и дзоты противника, расположенные вдоль железнодорожных путей, другие быстро минировали рельсы толовыми шашками и подрывали их, третьи разрушали мосты и водоотводы, уничтожали будки, стрелки, семафоры, линии телефонно-телеграфной связи[339]. Как видно из документов БШПД, за первые 3 дня партизанами Беларуси было подорвано около 44 тыс. рельсов, к 15 августа – 94,5 тыс., а к концу 1-го этапа операции, к середине сентября 1943 г., – более 121 тыс. рельсов. В первые дни «рельсовой войны» движение на важнейших магистралях Минск-Орша, Даугавпилс-Полоцк было прервано на 4, Минск-Гомель – на 5, Молодечно-Минск – на 10, Молодечно-Полоцк – на 15 суток. В течение нескольких недель бездействовали дороги Могилев-Жлобин, Могилев-Кричев, Барановичи-Лунинец. Надолго были выведены из строя участки дорог Тимковичи-Осиповичи, Поставы-Воропаево и другие. На втором этапе «рельсовой войны», которая получила кодовое название «Концерт» и проводилась с 19 сентября до ноября 1943 г. белорусскими партизанами, было подорвано свыше 90 тыс. рельс, произведено 1041 крушение поездов[340]. На третьем, заключительном этапе «рельсовой войны», в июне 1944 г., партизаны по плану БШПД должны были взорвать свыше 48 тыс. рельсов на важнейших участках железных дорог. Это задание было выполнено практически в течение одной ночи (19–20 июня), когда было подорвано 40 755 рельсов, что парализовало движение на всех важных для врага дорогах[341]. Однако охваченные патриотическим порывом партизаны продолжали взрывать рельсы, порой даже и на недействущих линиях, доведя количество уничтоженных рельсов до 61 тыс.[342]

Совещание в Белорусском штабе партизанского движения по проведению «рельсовой войны». Июль 1943 г. Слева направо: П. Л. Супрун – помощник начальника оперативного отдела БШПД, Г. Б. Эйдинов – секретарь ЦК КП(б)Б, П. С. Анисимов – начальник разведывательного отдела БШПД, А. И. Брюханов – начальник оперативного отдела БШПД, И. П. Ганенко – заместитель начальника БШПД, И. И. Рыжиков – секретарь ЦК КП(б)Б, Р. Н. Мачульский – один из организаторов и руководителей партизанского движения в Минской и Полесской областях, В. Н. Малин – секретарь ЦК КП(б)Б
Несомненно, что нараставшие удары белорусских партизан сыграли важную роль в дезорганизации работы железнодорожного транспорта противника во время напряженных сражений на фронтах в период коренного перелома и в ходе освобождения территории Беларуси.

Взорванный партизанами железнодорожный мост
Важнейшей составной частью борьбы против захватчиков являлись операции партизан на шоссейных и грунтовых дорогах, а также водных коммуникациях. С переменным успехом они велись с первых дней зарождения партизанского движения и особую актуальность приобрели в 1943–1944 гг., когда вследствие активных действий на железных дорогах ставились под угрозу перевозки, и противник вынужден был интенсивно использовать для подвоза снабжения и переброски войск автомобильный и гужевой транспорт. Нападения партизан на шоссейные, грунтовые и проселочные дороги имели повсеместный характер и отличались наибольшей интенсивностью в период вывоза оккупантами продуктов из сельских районов, осуществления ими других передвижений в пределах территорий, контролируемых партизанами. Часто успех обеспечивался внезапностью нападения, отвагой и решительностью, отличным знанием местности и умением использовать ее в момент боя и при выходе из него. Такие операции были обыденным, повсеместным явлением. Поэтому в отчетной документации практически всех партизанских отрядов имеется многочисленная информация о боевых действиях, засадах, налетах и диверсиях. Она свидетельствует о том, что по мере роста партизанского движения характер боевых действий на грунтовых и шоссейных дорогах качественно менялся. От уничтожения отдельных мелких групп и подразделений партизаны переходили к нападению на крупные обозы и транспортные колонны захватчиков. Операции на дорогах проводились повсеместно и в любую пору года. «Деятельность партизан в районе западнее Полоцка все больше принимает угрожающие формы, – отмечалось в сводке № 52 за март 1943 г. полиции безопасности и СД. – Дорога Полоцк-Дрисса почти полностью контролируется партизанами. Прилегающие к г. Лепель районы полностью находятся в руках партизан, в результате чего Лепель отрезан от внешнего мира. Подобное положение сложилось в Борисовском районе… На севере и западе Холопеничского района и на юге и юго-западе Круглянского района партизаны полностью контролируют положение и установили советские порядки»[343].
Множество различных операций, в том числе крупных, провели белорусские партизаны в 1943 г. Показательной в этом отношении была тщательно продуманная и блестяще проведенная зимой 1943 г. отрядом «Смерть фашизму» бригады «Старик» Минской области операция на шоссейной магистрали Минск-Орша между Жодино и Борисовом, о которой рассказал в своей книге И. П. Дедюля. На участке дороги, с высокой насыпью по сторонам, партизаны под командованием И. М. Демина устроили засаду, предварительно уложив на автостраде в вырытые ровики через равные промежутки 12 снарядов крупного калибра с натяжными взрывателями. Их предполагалось взорвать в момент, когда колонна машин продвинется на заминированный участок. Замаскировавшись по обе стороны дороги, стали ждать. Когда автоколонна под охраной двух танков – один впереди, другой сзади, оказалась на заминированном участке, партизаны взорвали снаряды и открыли прицельный ружейно-пулеметный огонь. Операция закончилась полным разгромом врага. В ходе ее бойцы уничтожили 22 автомашины, подорвали 2 танка, убили около 80 фашистов[344].
11 грузовиков уничтожили партизаны отряда имени А. В. Суворова бригады имени И. В. Сталина Барановичской области в операции, проведенной 21 февраля 1943 г. на дороге Ивье-Юратишки возле д. Ятолтовичи. Партизаны убили 37 и ранили 7 гитлеровцев, захватили оружие и боеприпасы, повредили легковую машину. В бою погибли командир роты И. В. Кирилюков, командир взвода Л. А. Дахо, бойцы Г. А. Снетков, Н. И. Собачкин, А. В. Гринь, получили ранения 5 партизан[345]. Нелегко доставались партизанам победы. В схватках с хорошо вооруженным противником они несли боевые потери.

Снайпер партизанского отряда имени Щорса Брестского соединения ведет огонь по противнику во время обороны Днепровско-Бугского канала
Гитлеровцы, чтобы сбить накал партизанской борьбы на коммуникациях, вынуждены были создавать вдоль основных дорог сеть гарнизонов и опорных пунктов, вырубать лесные полосы вдоль дорог, усиливать патрулирование, на что отвлекались значительные силы и средства. Но всё это не давало нужного эффекта. На основных дорогах движение осуществлялось только в дневное время и при усиленной охране. Это было несомненным успехом партизан. Поданным БШПД, в 1943 г. партизаны Беларуси взорвали и сожгли 3878 мостов, 585 танков и броневиков, уничтожили 8388 автомашин, 455 мотоциклов, 237 тракторов[346]. Всего за три года войны на шоссейных и грунтовых дорогах было уничтожено 18 700 автомашин, 4710 мостов[347].
Операции по разрушению коммуникаций были особенно эффективными в районах отступления противника во время боевых операций по освобождению территории БССР осенью 1943 – летом 1944 г.
Из-за выведенных из строя грунтовых дорог и шоссе гитлеровцы вынуждены были бросать технику и обозы, нести большие людские потери.
Постоянному воздействию партизанских ударов подвергались также водные пути, которые гитлеровцы пытались активно использовать в своих интересах для перевозки различных грузов.
С 1941 г. противник использовал Днепровско-Бугский канал – водную артерию длиной 196 км, имевшую большое хозяйственное и военное значение, водные пути по реках Припять, Днепр, Сож, Березина, Западная Двина. В январе 1943 г. командование Пинского соединения получило приказ БШПД вывести канал из строя. В феврале-марте отряды имени С. Г. Лазо, имени А. В. Суворова взорвали Овзичский, Ляховичский и Радогощский шлюзы. Для окончательного вывода канала из строя БШПД в мае направил в тыл врага инструктора-минера Н. В. Смеховича с необходимыми военными грузами. В мае-июне партизаны бригады имени В. М. Молотова уничтожили шлюзы Дубой и Переруб, а также Радостовский шлюз на Белоозерском канале. В результате этих операций Днепровско-Бугский канал окончательно вышел из строя. Уровень воды в нем на участке Пинск-Кобрин снизился до 30–60 см. Около 130 судов противника оказались заблокированными на Припяти и в Пинске[348].
Начиная с сентября 1943 г. гитлеровцы попытались восстановить канал, чтобы вывести суда в Буг. Однако партизаны сорвали и эти попытки.
Столь же успешными были действия партизан на реках Березина, Сож, Припять, по которым гитлеровцы намеревались наладить сплав леса, организовать перевозки зерна и других грузов. Движение судов и барж по ним систематически срывалось.
Так, в мае 1943 г., готовясь к открытию навигации по Припяти, фашисты пытались на двух катерах прорваться из Турова в Мозырь. Это была своеобразная проверка условий работы речного транспорта. Однако партизаны Туровского отряда «За Родину» Полесского соединения, узнав о намерениях фашистов, организовали у д. Переров засаду и встретили врага ружейно-пулеметным огнем. Один катер подбили. Второй, бронированный, взял его на буксир и повернул назад. В ходе перестрелки были убиты 8 гитлеровцев[349]. За период с апреля по октябрь 1943 г. украинские партизаны соединения С. А. Ковпака и С. В. Руднева потопили и серьезно повредили 90 пароходов, катеров, барж и моторных лодок, сорвав немецкие планы перевозок на Десне, Днепре и Припяти[350]. 17 августа 1943 г. подрывная группа 751-го партизанского отряда (командир
В. И. Ливенцев) под руководством В. И. Сикорского специально сконструированной миной потопила самый крупный, плавающий на Березине, двухпалубный пароход «Бобруйск», шедший с солдатами. 4 сентября 1943 г. партизанами 2-й Калинковичской бригады имени М. В. Фрунзе (командир К. Н. Морозов) также специально сконструированной миной подорвали и потопили 100-тонный бронированный пароход на Припяти[351]. Ряд операций по выводу из строя плавсредств провели партизаны на других реках. В целом можно считать, что попытки оккупантов использовать реки для перевозки грузов были сорваны.
Большую роль играли диверсионные действия партизан на линиях связи. Нарушение их серьезно отражалось на работе транспорта, военных ведомств и оккупационной администрации. Так, по данным БШПД, партизаны Беларуси уничтожили в 1943 г. 3159 км линий телеграфно-телефонной связи.
Боевые действия партизан на коммуникациях немецко-фашистских захватчиков имели огромное значение, были серьезной помощью Красной Армии в ее операциях на фронте. Многочисленные диверсии на шоссейных и грунтовых дорогах, водных путях, вывод из строя линий связи серьезно сказывались на работе тыловых служб противника и привели в конечном счете к срыву многих административных, военно-политических и экономических мероприятий оккупантов.
Для поддержания оккупационного порядка и обеспечения поставленных задач на территории Беларуси летом-осенью 1943 г. действовало более 1,5 тыс. военно-полицейских гарнизонов (более 70 тыс. человек). Как видим, количество партизан в этот период превышало количество оккупационных сил. Однако последние были лучше вооружены, имели тяжелую технику, связь, использовали авиацию и т. д. Для подавления партизанских сил немцам пришлось использовать, кроме охранных и полицейских частей, регулярные воинские части вермахта (около 25 дивизий), а также прибегать к использованию местных коллаборантских формирований (бригада СС Гиль-Родионова – 2,5–3 тысячи человек, бригада РОНА Каминского – 3 тысячи человек, батальоны «Днепр», «Березина», украинские, литовские, латвийские, остмусульманские, туркестанские, казачьи полки и т. д., русские роты в батальоне О. Дирлевангера и др.).

Карательная акция войск СС против полесских партизан. Май 1943 г.
Вражеские гарнизоны оказались неспособными беспрепятственно контролировать захваченную войсками территорию. Партизаны же продолжали громить опорные пункты противника, вытеснять их из населенных пунктов. Только в марте 1943 г. они, по неполным данным, совершили более 70 нападений на гарнизоны, в этих боях убили и ранили свыше 1100 гитлеровцев и их пособников[352].
Не снижалась активность партизан в борьбе с вражескими гарнизонами и позднее. В июле 1943 г. 32 гарнизона подверглось нападению (27 разгромлено), в августе – 76 (53 разгромлено). Всего, по данным БШПД, весной-летом 1943 г. партизаны Беларуси уничтожили более 220 гарнизонов[353]. Наибольшая активность наблюдалась в Могилевской области против тыловых гарнизонов 4-й армии (только с 25 августа по 11 сентября 1943 г. было ликвидировано 20 гарнизонов). Наиболее масштабным было наступление партизан Кличевщины, которые в августе произвели нападения на 13 гарнизонов, из которых 8 уничтожили[354]. По подсчетам белорусского историка К. И. Козака, в это время было разгромлено: в Витебской – 18, Гомельской – 14, Вилейской – 12, Полесской – 10, Минской – 6 гарнизонов, по два в Брестской и Барановичской, один – в Белостокской областях[355].
В ходе второго периода Великой Отечественной войны партизаны Беларуси разгромили и нанесли чувствительные удары более чем 600 вражеским гарнизонам, хорошо вооруженным и укрепленным. Это является свидетельством возросшей организованности, силы и мощи партизанского движения. Разгром гарнизонов способствовал расширению партизанских зон. К началу операций Красной Армии по освобождению Беларуси партизаны удерживали в своих руках более 20 зон.
Не имея возможности с помощью гарнизонов справиться с партизанским движением и контролировать ситуацию, гитлеровцы вынуждены были прибегать к проведению так называемых карательных, или пацифистских, операций с целью блокировки, а затем уничтожения партизанских формирований. Для этой цели привлекались значительные воинские и полицейские силы. В 1943 г. гитлеровцы провели более 60 крупных карательных экспедиций, которые были отражены партизанами и не достигли своих целей. Против партизан сражались полки, дивизии, обеспечивавшиеся поддержкой артиллерии, танков, авиации. Действия карателей против партизан по своим масштабам и привлеченным силам во многом были сходными с боями на фронте.
Разгром многих гарнизонов вермахта, провал карательных операций оккупантов сорвали планы врага при их помощи помешать развитию партизанского движения, осуществлять безнаказанный грабеж и вывоз в Германию из Беларуси сырья, продовольствия и других материальных ценностей.
Среди разнообразных способов борьбы против немецких захватчиков в тылу врага видное место принадлежало боевым рейдам партизанских формирований. Боевые рейды по вражеским тылам совершали в годы Великой Отечественной войны партизаны Украины, Беларуси, Ленинградской, Смоленской, Калининской и Орловской областей Российской Федерации, молдавские, литовские, латышские отряды и бригады. Рейд, как способ борьбы или форма боевых действий, включал в себя совокупность боев, диверсионно-разведывательной деятельности и массово-политической работы, проводимых группами, отрядами, бригадами, соединениями в ходе передвижения, когда они уходили на длительное время из районов своего основного расположения или покидали их вообще.
Первоначально даже рейды небольших отрядов по территории многих районов в тылу врага имели важное морально-политическое значение, являясь свидетельством открытой борьбы с оккупантами. Проходя через десятки, сотни населенных пунктов, уничтожая мелкие полицейские участки, местную оккупационную администрацию, рейдирующие вселяли уверенность в победе над врагом, несли людям правду о войне, разоблачали гитлеровскую пропаганду. Они имели большое значение для установления связи отрядов, располагавшихся в различных зонах, с Большой землей, координации их боевой деятельности, ведения разведки, оказания помощи подпольным партийным органам и командованию партизан в дальнейшем развертывании всенародной борьбы против фашистских захватчиков.
Одной из первых в 1943 г. совершила рейд бригада имени К. С. Заслонова. Он начался в середине февраля. Кольцевым 300-километровым маршем бригада прошла по Сенненскому, Богушевскому, Витебскому, Бешенковичскому, Чашникскому, Лепельскому районам Витебской области, Холопеничскому району Минской области. 1 апреля ее отряды возвратились на прежнее место расположения в Сенненском районе. В ходе рейда партизаны очищали населенные пункты от гитлеровцев и их пособников, разгромили несколько комендатур и волостных управ, уничтожили в боях 111 вражеских солдат и офицеров. Везде, где проходили отряды, проводились собрания, политинформации, беседы, доводилась информация о сокрушительном разгроме фашистских армий под Сталинградом, об успешных боевых действиях Красной Армии на Ленинградском и других фронтах Великой Отечественной войны. Молодежь вступала в ряды партизан, пожилые люди добровольно выполняли роль проводников.
Весной 1943 г. из Ушачского района Витебской области на территорию Литовской ССР и обратно совершила рейд группа партизан бригады «Дубова». Целью рейда было организовать крушение воинских эшелонов на железнодорожной магистрали Вильнюс-Даугавпилс, по которой враг усиленно доставлял войска и боевую технику к фронту. Отобранные для похода бойцы и командиры прошли соответствующую краткосрочную подготовку. Они ознакомились с тем, как совершать диверсии на железнодорожных путях, мостах, пускать под откос эшелоны, уничтожать автотранспорт, разрушать связь и другие фашистские объекты, громить оккупантов из засад. В рейд группа в количестве 80 человек, во главе с комиссаром бригады В. Е. Лобанком, вышла 10 апреля. В ходе 20-дневного рейда партизаны, пройдя в пути более 350 км, пустили под откос три эшелона. Один из них был атакован и разгромлен. Партизаны захватили при этом много оружия и боеприпасов[356].
Рейды совершались также в случаях необходимости вырваться из окружения или блокады во время карательных операций противника. Но и в таких случаях они не теряли своего значения как для партизан, так и населения. В 1943 г. оккупанты, используя трудности зимы для партизан, провели на территории Беларуси ряд карательных экспедиций. Такая же операция была подготовлена и против партизан Гомельского соединения. В середине января партизанская разведка установила, что вокруг Омельковских лесов немцы концентрируют значительные силы, готовя крупную карательную экспедицию. 18 января сюда прибыли Наровлянский отряд В. П. Яромова (80 человек) и отряд имени Жукова Г. Д. Селивоненко (около 300 человек) из соединения А. Н. Сабурова, которые покинули свою территорию, выходя из блокады, начавшейся 15 января силами полиции и двух словацких полков. Стало известно, что вокруг партизанской зоны сконцентрировано около 30 тысяч войск и полиции, танки, артиллерия, авиация. На совещании командиров партизанских отрядов зоны 24 января ввиду явного превосходства сил противника было принято решение выходить из блокады в Октябрьскую партизанскую зону. Оставалось только узнать точное время начала генерального наступления немцев. Поэтому встала задача срочно взять «языка». Помог случай. В засаду возле д. Дубровица попала подвода, на которой находился крестьянин-ездовой и два офицера. Один, отстреливаясь, бежал, а второй даже не пытался достать оружие. Им оказался ветврач словак Ладислав Дында, который сам искал возможность уйти к партизанам. Он уточнил сведения партизанской разведки и размещение частей и назвал точную дату наступления – утро 28 января. Поэтому, когда 26 января каратели двумя колоннами численностью в 200 человек повели наступление на д. Лубеники и поселок Майское, застава отряда «Смерть фашизму» боя не приняла, а отошла в лес и вела наблюдение. Каратели почти полностью сожгли эти населенные пункты. Другие заставы также сообщили в штаб соединения о занятии противником населенных пунктов, примыкающих к зоне. Вечером 27 января 1943 г. партизаны, погрузив запасы продовольствия и забрав раненых и больных, а их было больше 40 человек, двинулись мимо Дубровицы, затем Сергеевки в обход Лесного. Надежда, что в секторе 2-й словацкой дивизии «не заметят» партизан, оправдалась. Колонна растянулась на четыре километра. Стоял сильный мороз. Двигались по бездорожью и глубокому снегу. За ночь прошли около 40 км, но перейти к утру, как планировалось, железную дорогу Речица-Калинковичи, не смогли. Остановились в населенных пунктах недалеко от дороги. Перейти удалось на следующую ночь через неиспользуемый переезд между Бабичами и Крынками, а для этого пришлось идти 5 км по снежной целине. К утру соединение сконцентрировалось в д. Будка-Шибенка, Володарск, Горновка, Первомайск, Балашовка, Москали. Отдохнув, 31 января партизаны продолжили рейд. За партизан каратели отыгрались на жителях деревень партизанской зоны. В первых числах февраля Гомельское соединение прибыло в расположение соединения Р. Н. Мачульского. «По пути мы разгромили 10 полицейских участков, убили до 200 полицейских и пополнили свои отряды оружием, – писал в своей докладной записке в ЦК КП(б)Б секретарь Гомельского горкома КП(б)Б С. Ф. Антонов. – В соединении Мачульского мы простояли до 19 февраля… На базу Козлова нам обещали выбросить груз, но последнего мы не получили… 17 числа было проведено по отрядам собрание, на котором был поставлен вопрос перед отрядами о том, что питать надежды на получение оружия и боеприпасов с Большой земли не приходится, надо использовать каждому отряду все местные ресурсы. С этим наставлением отряды 19 февраля 1943 года двинулись обратно в путь в свой район»[357].
Аналогичный рейд совершили партизанские соединения Слуцкой зоны и Пинской области в междуречье Морочи, Лани и Цны в период со 2 февраля по 3 марта. Их 250-километровый боевой марш являлся составной частью плана отражения одной из крупных карательных операций «Хорнунг». Маршрут разработали на совещании в д. Пузичи с участием секретаря Минского подпольного обкома КП(б)Б И. Д. Варвашени, начальника штаба Слуцкого соединения П. 3. Игнащенко, командира Пинского соединения В. 3. Коржа, командиров бригад – 27-й имени В. И. Чапаева Н. А. Шестопалова и 300-й имени К. Е. Ворошилова В. Г. Еременко. Соединения разделились на две колонны и разошлись в разные направления. Каратели были дезориентированы. Тем временем все отряды вышли в тыл наступавшего противника и в районе деревень Колки, Гоцк, Святая Воля неожиданно нанесли по его подразделениям сильный удар.
Боевые рейды по территории Беларуси в 1943 г. совершили ряд партизанских формирований областей РСФСР. Так, из клетнянских лесов Орловской области 4 мая 1943 г. начала рейд бригада «Вперед» под командованием П. Г. Шемякина. Она обосновалась в чечерских лесах Гомельской области, оттуда наносила удары по коммуникациям, связывавшим Гомель со Жлобином, Новозыбковом, Тереховкой.
18 мая бригада «Вперед» вошла в чечерские леса. В ходе рейда она значительно пополнилась людьми. Особенно заметно вырос двигавшийся вместе с ней Добрушский отряд, созданный на базе группы И. П. Кривенченко, которая в апреле 1943 г. прибыла из-за линии фронта в район клетнянских лесов. Выступив в рейд численностью в 23 бойца, этот отряд за короткий срок стал полнокровной боевой единицей. В июне его преобразовали в Добрушскую бригаду имени И. В. Сталина[358].
После рейда украинских соединений С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова из брянских лесов в белорусское и украинское Полесье весной 1943 г. в результате совместных боевых действий украинских и белорусских партизан образовался огромный партизанский край площадью около 2 тыс. км2 с населением более 200 тысяч человек. Полновластными хозяевами в этом районе были соединения украинских партизан, а также отряды и бригады Ельского, Мозырского, Лельчицкого, Петриковского и других районов Полесской и Пинской областей Беларуси. В Лельчицком районе БССР был оборудован аэродром, через который осуществлялось снабжение украинских и белорусских партизан, не только действовавших на территории партизанского края, но и за его пределами; отсюда же самолеты вывозили раненых в советский тыл. Более одной трети личного состава прославленных партизанских соединений под командованием С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова составляли мужественные сыны и дочери белорусского народа. В свою очередь свыше 10 тысяч украинцев сражались в рядах белорусских партизан. Образование в тылу врага партизанских краев и зон является неоспоримым свидетельством массовости партизанского движения, боевой дружбы и взаимопомощи народов СССР и бессилия фашистских оккупантов перед народным сопротивлением[359].
Ряд рейдов был совершен в связи с планом БШПД по перераспределению партизанских сил как внутри зон и областей республики, так и между ними путем перемещения отдельных групп, отрядов и бригад из районов большого их сосредоточения в те места, где таких формирований было меньше. Особое внимание при этом уделялось переходу отрядов и бригад из восточных в западные области Беларуси. Выполняя установки постановления ЦК КП(б)Б от 22 июня 1943 г. «О дальнейшем развертывании партизанского движения в западных областях Белоруссии» и письма ЦК «О военно-политических задачах работы в западных областях БССР», БШПД были разработаны мероприятия по организации продолжительных боевых рейдов.
В поход посылались закаленные в боях отряды, в первую очередь те, которые уже имели опыт рейдирования, как, например, 208-й партизанский полк имени И. В. Сталина, отряд «Бесстрашный», бригада «За Родину» имени А. К. Флегонтова. Одной из первых совершила рейд бригада имени К. К. Рокоссовского (командир – А. В. Романов, комиссар – П. М. Машеров), действовавшая в Россонском районе Витебской области. Около трех недель длился рейд партизанской бригады имени Г. К. Жукова из Россонского в Браславский район Вилейской области. Всего из Витебской в Вилейскую область летом-осенью 1943 г. перешли 3 партизанские бригады. Кроме того, осенью сюда прибыли еще отдельных отрядов. В итоге партизанское соединение Вилейской области пополнилось 2200 бойцами. Они развернули под руководством подпольного обкома партии боевую, организаторскую и политическую работу в восьми новых районах.
Свыше 800 км от Березины до Буга прошла партизанская бригада имени А. К. Флегонтова. Как и другие рейдирующие формирования, она постоянно пополнялась новыми бойцами. Ее состав за время рейда с 400 человек увеличился в 2 раза. Организованно прошли рейды из восточных областей в западные 8-й и 150-й партизанских бригад, образованных накануне рейда в Могилевской и Полесской областях. Всего к зиме 1943–1944 гг. в западные области Беларуси прибыли 16 крупных партизанских формирований, в их числе одно областное (Белостокское), 8 бригад, один (208-й) полк, 6 отдельно действующих отрядов, общим количеством почти 8 тысяч человек. Это была значительная сила, которая совместно с находившимися здесь отрядами и бригадами создала вдоль западной границы БССР своеобразный партизанский заслон, или фронт.
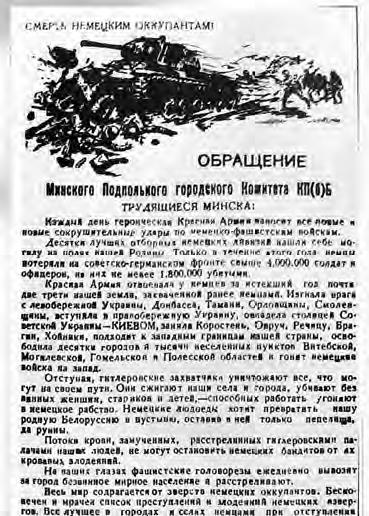
Листовка Минского подпольного горкома КП(б)Б. 1944 г.
Успех рейдовых операций отрядов и бригад на широком оперативном пространстве был обеспечен помощью Большой земли и всесторонней поддержкой местного населения.
Взаимодействие партизанских сил с частями Красной Армии в процессе освобождения территории Беларуси
С приближением Красной Армии к границам республики и особенно с началом освобождения ее первых районов происходит процесс более тесного взаимодействия партизанских формирований с частями Красной Армии. В период с января по сентябрь 1942 г. осуществлялось непосредственное (тактическое) взаимодействие витебских партизан с подразделениями 4-й Ударной Армии по удержанию так называемых Витебских (Суражских) ворот – 40 км участка линии фронта. В более широком плане (стратегическом, оперативном и тактическом) взаимодействие стало осуществляться в период боев Красной Армии по освобождению территории Беларуси осенью 1943 – весной 1944 г. и особенно в период проведения операции «Багратион».
23 сентября 1943 г. войсками 13-й армии Центрального фронта под командованием Н. П. Пухова был освобожден первый районный центр республики – г. п. Комарин Полесской области. Активную помощь советским воинам в наведении переправ на Днепре оказывали партизаны отряда имени К. Е. Ворошилова, действовавшего на территории района[360].
В связи с вступлением Красной Армии на территорию Беларуси перед подпольными партийными организациями и партизанскими отрядами и бригадами северо-восточных и юго-восточных районов республики встали конкретные задачи по организации тесного взаимодействия с советскими частями, оказании им всесторонней и эффективной помощи. В обобщенном виде они были изложены в директивном письме ЦК КП(б)Б от 21 сентября 1943 г. «О задачах подпольных парторганизаций и партизанских отрядов Белоруссии по спасению населения от истребления и угона в рабство при отступлении немецких войск» и в Обращении Президиума Верховного Совета БССР, СНК БССР и ЦК КП(б)Б к белорусскому народу от 23 сентября 1943 г.
Центрами планирования, координации, а также материально-технического обеспечения всех форм взаимодействия в это время становятся оперативные группы БШПД при военных советах фронтов. Они были укомплектованы опытными кадрами. Так, штат оперативной группы БШПД (Представительство ЦШПД и БШПД) на Белорусском фронте (возглавлял генерал-майор А. А. Горшков, а с декабря 1943 г. И. М. Дикан) насчитывал 55 человек. Ей были подчинены Гомельское, Могилевское, Брестское и Пинское областные соединения. Соответствующие опергруппы БШПД действовали также на 2-м, 3-м Белорусских и 1-м Прибалтийском фронтах. Опергруппы работали в тесном контакте с военными советами фронтов и армий[361].
В сентябре 1943 г. при штабе 61-й армии была создана оперативная группа Полесского обкома партии. Тесные связи существовали между штабом 65-й армии и Минским подпольным обкомом. В период боев советских войск в районах расположения партизан устанавливались личные контакты командования партизанских формирований с командованием соединений и частей Красной Армии для согласования планов совместных действий. С этой целью для уточнения обстановки в тылу врага, дачи конкретных указаний по реализации планов, а также проверке их исполнения в течение только января-мая 1944 г. из тыла противника было вызвано более 50 руководящих партийных работников и командиров партизанских соединений. За этот же период в тыл врага было направлено 134 представителя с заданиями и директивами БШПД и конкретными боевыми заданиями для партизан[362]. Следует отметить, что почти во всех операциях по взаимодействию партизан с частями Красной Армии предусматривалась посылка в тыл врага представителя штаба для увязки и координации действий на местах. Как мы уже отмечали, помимо скоординированной борьбы на коммуникациях одной из наиболее действенных форм боевой деятельности партизанских сил Беларуси являлись боевые операции по разгрому вражеских гарнизонов, которые рассматривались гитлеровским руководством как важнейшее средство по поддержанию оккупационного режима, а также широкой борьбы против партизан. Во время весенне-летних боев 1943 г. партизаны Беларуси разгромили более 220 вражеских гарнизонов, что значительно улучшило положение партизанских сил. В августе-сентябре 1943 г. активную борьбу против тыловых гарнизонов 4-й немецкой армии вели партизаны Могилевщины, которые в течение двух ночей – с 25 на 26 августа и с 10 на 11 сентября 1943 г. ликвидировали 20 гарнизонов противника[363].
Заметно возросло взаимодействие белорусских и украинских партизан во второй половине 1943 г., когда на стыке двух союзных республик проводилась Черниговско-Припятская наступательная операция силами трех армий Центрального фронта с целью разгрома 2-й и 9-й немецких армий. Она началась 26 августа. Белорусские и украинские партизаны, действовавшие в тылу врага на направлении наступающих войск Красной Армии, участили удары против гарнизонов и коммуникаций врага. Важную операцию по разгрому крупного вражеского гарнизона в Наровле осуществили белорусские и украинские партизаны в ночь с 29 на 30 августа 1943 г. Объединенные силы отрядов имени С. М. Кирова (командир – В. П. Яромов), Мозырского (командир – А. Л. Жильский) Полесской области и украинских отрядов под командованием М. А. Рудича, Е. И. Мирковского, Г. Ф. Покровского разгромили гарнизон в Наровле, насчитывавший 128 гитлеровцев. В туже ночь был нанесен удар автоматчиков украинского соеинения А. Н. Сабурова и бойцов Мозырского отряда по гарнизонам в деревнях Щекотово и Слобода. Более 100 оккупантов было выведено из строя в этих боях. Партизаны в качестве трофеев взяли 4 пулемета, 93 винтовки, 120 лошадей, 3 тонны зерна[364].
С действиями войск Западного и Калининского фронтов, вступивших в начале октября 1943 г. на территорию области, были увязаны боевые операции витебских партизан против вражеских гарнизонов. К этому времени на территории Витебской области действовали 29 партизанских бригад общей численностью более 24,7 тысячи человек, которые дислоцировались в 4 зонах: Суражской (партизанские бригады Захарова, Райцева, Бирюлина, Воронова, Сафронова, Барсукова – 1429 человек), Россонско-Освейской (партизанские бригады Марченко, Прудникова, Охотина, Герасимова, Кухаренко, Захарова – 6468 человек), Лепельско-Ушачской (партизанские бригады Дубровского, Лобанка, Мельникова, Сакмаркина, Романова, Тябута, Толоквадзе, Райцева – 9125 человек), Сенно-Оршанская (партизанские бригады Селицкого, Комлева, Леонова, Данукалова, Кириллова, Нарчука, Гудкова, Прохоренко, Шлапакова, полк Садчикова, отряды Бирюлина, отряд Гурко -7808 человек)[365]. Это была значительная вооруженная сила, с которой вынуждено было считаться немецко-фашистское командование. Совершенно очевидно, что этот потенциал всячески стремилось использовать советское командование. Партизанским отрядам рекомендовалось блокировать крупные и уничтожать мелкие гарнизоны, повсеместно устраивать засады и завалы на дорогах, рвать линии связи, всячески лишать противника согласованных действий, постоянными обстрелами и диверсиями, средствами активной печатной и устной пропаганды деморализовать оккупантов.
3 октября 1943 г. войска Западного фронта возобновили наступление в направлении Орши, а через три дня войска Калининского фронта на Невельском направлении нанесли чувствительный удар по противнику в тыл Витебской группировки. В ходе упорных боев советские войска 7 октября освободили Невель и железнодорожную линию Дно-Новосокольники-Невель, прервав сообщение между гитлеровскими группами армий «Север» и «Центр». Между армиями образовался 20-километровый разрыв, не заполненный войсками. Это обстоятельство чрезвычайно встревожило гитлеровское военное руководство. Оно отчетливо понимало, что в случае потери Витебска для Красной Армии откроется прямой путь через Даугавпилс на Ригу, в глубокий тыл группы армий «Север». Кроме того, существовала реальная угроза выхода советских войск к Полоцку, где вместе с партизанами Витебщины они могли составить серьезную угрозу тылам групп армий «Север» и «Центр». «Командование 3-й танковой армии считает, – докладывал в Ставку Гитлера начальник штаба генерал-майор Хейдкемпер, – что из района прорыва Невель, установив связь с крупными партизанскими районами Лепель и Россоны, противник может начать развитие зимней операции, последствия которой для группы армий “Север” и “Центр” нельзя даже представить и которая может иметь решающее значение для всего Восточного фронта»[366]. Поэтому в указанный район в спешном порядке была начата переброска значительных немецких войск – семи пехотных и одной танковой дивизии, а также усилились мероприятия по охране оперативного тыла 3-й танковой армии.
В свою очередь, руководством ЦШПД и БШПД перед партизанскими отрядами Витебской области была поставлена задача по активизации боевой деятельности и нанесения внезапных мощныхударов по крупным гарнизонам врага в тылу 3-й танковой армии с целью нарушения снабжения и связи, дезорганизации управления и обороны противника, а также отвлечения части сил от боевых действий Калининского и Западного фронтов. В ЦШПД и БШПД прекрасно понимали, какое значение могут сыграть партизанские формирования Витебской области в случае успешного продвижения советских войск на Полоцком и Оршанском направлениях. В этом случае особое значение приобретала задача разгрома гарнизона противника в г. Лепель, который являлся важным узлом шоссейных дорог Витебск-Лепель-Минск, станций Ловша-Лепель-Борисов, Лепель-Орша, важнейшим опорным пунктом по охране коммуникаций и борьбы против партизан.
В ряде случаев отдельные части Красной Армии для более тесной координации боевых действий с партизанами выделяли офицеров связи и посылали их в отряды и бригады. Блестящим примером оперативно-тактического взаимодействия партизан с частями Красной Армии при освобождении восточных районов Беларуси является 2-й этап «рельсовой войны», проведенной в сентябре-октябре 1943 г., в ходе которой было подорвано 90 тыс. рельсов. В октябре партизаны ежедневно пускали под откос в среднем 28 эшелонов противника. Партизаны повсеместно громили отступавшие вражеские части, вносили разлад и дезорганизацию в их передвижении, смело вступали в бой, задерживали фашистов до подхода частей Красной Армии.
Активно помогали воинам Красной Армии партизаны 1-й Гомельской бригады (Балыков, Поляков) и подпольщики Гомельщины. Они собирали данные о численности и вооружении воинских частей, оборонительных сооружениях врага, складах с боеприпасами, зенитных установках, наличии самолетов и т. д. Подпольщики Гомеля сообщали за линию фронта сведения о скоплении вражеских эшелонов на железнодорожном узле и о военных объектах в городе. Используя эти данные, советская авиация неоднократно наносила удары по врагу.
Разведывательная работа партизан проводилась в тесном взаимодействии со 184 спецгруппами органов государственной безопасности, а также контрразведки «Смерш», военной разведки. В них насчитывалось 6150 человек, которым активно помогали почти 9 тысяч патриотов из числа партизан, подпольщиков, местного населения[367].
Часто спецгруппы базировались при партизанских отрядах и бригадах, проводили совместные разведывательные и диверсионные операции, подпольщики предоставляли укрытия для самих советских разведчиков и их раций.
Так, с 20 января 1944 г. во взаимодействии с партизанами было налажено постоянное наблюдение за переброской фашистских войск на 19 важнейших участках железнодорожной сети [368].
Особенно большое внимание партизаны уделяли разведке оборонительных сооружений гитлеровцев в Беларуси, которые они усиленно возводили в течение двух лет. Общая протяженность обороны врага достигала 2200 км и состояла из 5 рубежей и укрепленных районов. Не менее 20 % всех передаваемых партизанами по рациям сведений составляла информация об укреплениях противника. Обобщив все полученные сведения, разведывательный отдел (РО) БШПД в конце июня 1944 г. составил для командования Красной Армии подробную карту оборонительных рубежей врага[369].
В целом к концу июня 1944 г. разведка партизан республики установила до 298 соединений и частей вермахта, наличие которых подтверждалось более тысячи раз. Было выяснено расположение 27 штабов, в том числе группы армии «Центр», 3-й танковой армии, 2, 4 и 9-й полевых армий[370].
Разведка партизан уделяла большое внимание получению сведений о стратегических намерениях фашистского командования и военно-техническим данным о разработке нового оружия. Не менее впечатляющими были достижения в военно-технической разведке. От перешедшего к партизанам осенью 1943 г. военнослужащего вермахта Р. Муцака, служившего в Пенемюнде, стало известно о работах гитлеровских ученых и инженеров над крылатыми ракетами ФАУ-1 и баллистическими ФАУ-2. В конце 1943 г. от другого перешедшего к партизанам военнослужащего вермахта, А. Лемке, получили сведения о новом типе самолета – реактивном истребителе и о двух заводах по его производству – в городах Росток и Бранденбург, его скоростных характеристиках[371]. Немцы применили ФАУ-1 лишь в июне 1944 г., а ФАУ-2 – осенью 1944 г., реактивные истребители – в начале 1945 г.
К середине апреля 1944 г. завершился первый этап освобождения территории Беларуси Красной Армией. На белорусском направлении наступила оперативная пауза, активные боевые действия на фронте здесь прекратились. К этому времени были освобождены 36 районов Витебской, Могилевской, Гомельской и Полесской областей, в том числе областные центры Гомель и Мозырь. Освобожденная территория составила примерно одну пятую часть всей территории Беларуси. Сотни тысяч жителей БССР были освобождены от нацистской оккупации. За период с октября 1943 по апрель 1944 г. с частями Красной Армии соединилось более 35 партизанских бригад и 15 отдельно действовавших партизанских отрядов, общим количеством более 50 тысяч человек.
Наступившая пауза по-разному была воспринята сражающимися сторонами. Германское командование, оценивая события на советско-германском фронте, исходило из того, что главные события летом 1944 г. произойдут на южном участке фронта, где советские войска предпримут попытку по овладению румынскими нефтяными источниками, а также для глубокого прорыва на Балканы. При этом допускалась возможность наступления советских войск в Прибалтике, а также в Беларуси, но она, по расчетам Берлина, не могла преследовать решительных целей. Тем не менее, учитывая благоприятные для организации прочной обороны условия местности, гитлеровцы, широко используя принудительный труд местного населения, продолжали активное строительство оборонительных рубежей. Кроме того, используя затишье на фронте, гитлеровцы делали всё возможное, чтобы полностью покончить с партизанами в первой половине 1944 г. Карательные операции против партизан Беларуси проводились постоянно на протяжении с сентября 1943 г. Особенно они усилились в январе-марте 1944 г. и продолжались до 23 июня 1944 г.
С первых дней апреля 1944 г. противник силами 5-й венгерской дивизии, нескольких отрядов СС и полиции, при поддержке танков, артиллерии и авиации начал операцию с целью ликвидации 11-тысячной группировки партизан Брестского партизанского соединения, дислоцировавшейся в районе озер Черное и Споровское. 14 суток партизаны вели изнурительные бои, защищая зону. Врагу, имевшему численное превосходство в живой силе и особенно в оружии и боеприпасах, ценою больших обоюдных потерь удалось вытеснить партизан и занять ряд населенных пунктов. Однако продвинуться дальше и выполнить поставленную задачу им не удалось. Прекратив наступление, каратели сожгли занятые ими населенные пункты, жестоко расправились с захваченным мирным населением и отошли на прежние позиции[372].

Выход на боевую операцию партизан отряда «Разгром» бригады «Разгром» Минской области. 2 апреля 1944 г.
Самая крупномасштабная военная экспедиция за годы войны против белорусских партизан проводилась в период с 11 апреля по 5 мая 1944 г. против Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Ее целью было обезопасить единственный путь подвоза живой силы и техники для 3-й танковой армии – дорогу Витебск-Лепель-Парафьянов. Вторым моментом было понимание того, что крупные партизанские силы и удерживаемая ими территория в непосредственной фронтовой полосе могут быть использованы как удобный плацдарм в случае наступления советских сил. По свидетельству бывшего начальника штаба 3-й танковой армии Отто Хейдкемпера, на первом этапе (11–17 апреля; операция «Регеншауер» («Ливень»)) главной целью было отбросить партизан в западную часть зоны, а затем в ходе операции «Фрюлингсфест» («Праздник весны») не вводимые до особого распоряжения войска, в том числе группа К. фон Готтберга, должны были завершить их окружение. Руководил операцией командующий 3-й танковой армией генерал-полковник Ганс Рейнгард и генеральный комиссар «Белорутении» группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Курт фон Готтберг[373]. В ней принимали участие фронтовые части, охранные, эсэсовские и полицейские формирования, 137 танков, 235 орудий, 70 самолетов. Им противостояли 16 партизанских бригад общей численностью 17 185 человек, имевшие на вооружении 9344 винтовки, 1544 автомата, 624 ручных и 97 станковых пулеметов, 151 противотанковое ружье, 143 миномета, 21 орудие. Общая протяженность партизанских оборонительных линий составляла 230 км. К началу сражения они имели глубину до 15–20 км. Узлы сопротивления были оборудованы так, что могли отражать нападение противника с любого направления. При этом умело использовались естественные препятствия: реки, болота, система озер и лесные массивы[374]. Главным итогом боевых действий партизанских формирований Полоцко-Лепельской зоны в апреле-мае 1944 г. было то, что гитлеровцам так и не удалось достичь поставленных целей. По данным БШПД, захватчики потеряли в этой операции до 20 тысяч солдат и офицеров, 50 танков, 116 автомобилей и 7 бронемашин, 22 орудия и 2 самолета. Партизаны, значительно обескровив противника, также понесли огромные потери, однако сумели организованно выйти из «мешка» в Ушачах, сохранить свою боеспособность и, по свидетельству Маршала Советского Союза И. X. Баграмяна, с началом наступления Красной Армии в июне 1944 г. оказывать неоценимую помощь в наиболее ответственные моменты операции [375].
Период с апреля по июль 1944 г. был самым трудным для белорусских партизан. Карательные экспедиции, в связи с тем, что гитлеровцы широко использовали фронтовые и специально подготовленные для борьбы с партизанами части, одновременно проходили в разных областях: на севере и юге, востоке и западе. Это создало для партизан огромные трудности по взаимодействию друг с другом[376]. Так, только после получения известия о начале операции «Багратион», гитлеровцы вынуждены были прекратить операцию «Корморан» («Баклан»), которая велась против партизанских формирований Сенненско-Оршанской зон Витебской и Борисовско-Бегомльской зон Минской областей с 20 мая 1944 г. Партизаны оказались здесь в чрезвычайно сложной ситуации на грани полного разгрома.
Сегодня нам хорошо известно, что стратегический просчет германского военного руководства относительно направления главного удара был блестяще использован советским командованием при подготовке стратегической наступательной операции «Багратион».
Известно также, что уже в самом замысле операции «Багратион», кроме мощных наступательных ударов 4 фронтов -1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских, Ставкой Верховного Главнокомандования было предусмотрено активное участие в операции белорусских партизан. «В то время как войска готовились к предстоящим боям, в полной боевой готовности находились и белорусские партизаны, – отмечал Маршал Советского Союза А. М. Василевский. – План их действий, разработанный Белорусским штабом партизанского движения, был согласован с командованием наступавших в Белоруссии фронтов»[377].
В соответствии с этим планом партизаны всеми наличными силами и средствами создали в Беларуси встречный фронт, приближавший день полного изгнания захватчиков за пределы советской страны.
Ко времени начала операции «Багратион» в непосредственном тылу группы вражеских армий «Центр» находилось 150 партизанских бригад и 49 отдельно действующих отрядов, насчитывавшие более 140 тысяч партизан, которые имели богатый боевой опыт, четкое военно-политическое руководство и были связаны двухсторонней радиосвязью и центральными руководящими органами – ЦК КП(б)Б и БШПД. Свыше 250 тысяч человек числилось в составе скрытых партизанских резервов[378].
БШПД детально разработал план действий белорусских партизан, который в конце мая 1944 г. был согласован с командованием фронтов. Планом предусматривалось проведение массированных одновременных рельсовых ударов, имевших оперативное значение, а также широкое тактическое взаимодействие между партизанскими формированиями, с одной стороны, и частями и соединениями Красной Армии, с другой. Наряду с этим партизанам ставились задачи по захвату важных узлов обороны и крупных населенных пунктов, удержание водных переправ, преграждение путей отхода и преследование противника. Большие задачи стояли и перед партизанской разведкой. Сведения о противнике добывались различными способами. Патриоты держали под неослабным контролем все коммуникации, аэродромы и гарнизоны врага, следили за перегруппировкой его войск, устанавливали объем и характер перевозок и т. д.
Различными путями и приемами партизанская разведка к началу операции «Багратион» установила точное расположение штаба группы армий «Центр», а также дислокацию штабов 3-й и 4-й танковых, 2, 9 и 4-й общевойсковых армий, 290 воинских частей, входящих в состав центральной группировки противника. Были добыты сведения о 900 гарнизонах противника, почти о всех оборонительных сооружениях, 130 зенитных батареях, 54 аэродромах и 24 взлетно-посадочных площадках, о строительстве 11 ложных аэродромов, о 160 крупных складах боеприпасов, горючего и продовольствия[379].
Особенно тщательно партизанами изучался передний край обороны противника. Уже к концу мая командование Красной Армии располагало точной схемой рубежей по линии Витебск-Орша-Шклов-Могилев-Быхов. Все наиболее опасные участки, насыщенные огневыми точками, были нанесены партизанами на карту. Партизаны захватили и переправили за линию фронта массу самых разнообразных приказов, карт, схем, рапортов, донесений, схемы почти всех городов Беларуси и множества населенных пунктов. Данные партизанской разведки в полной мере использовались как в период подготовки, так и непосредственно во время наступления.
Для этого периода было характерным тесное взаимодействие партизанской и армейской разведки, которое в ходе операции «Багратион» осуществлялось на всех фронтах, принимавших участие в освобождении Беларуси. Обычной была практика засылки фронтовых разведчиков на самолетах с посадкой на аэродромах партизан. Находясь в партизанских формированиях, они оперативно обрабатывали поступавшую от партизан и населения развединформацию и по своей радиосвязи пересылали ее в разведотделы своих фронтов[380]. Бывший начальник БШПД П. 3. Калинин в книге «Партизанская республика» писал: «Партизанским разведчикам активно помогало население временно оккупированных областей, особенно молодежь. Поэтому мы в БШПД регулярно получали ценную информацию о перегруппировках вражеских войск, о походе резервов противника, о сосредоточении его боевой техники. Полученные данные незамедлительно передавались командованию фронтов, а наиболее важные – в Генеральный штаб Красной Армии»[381].
От зорких глаз партизан не ускользало ни одно мероприятие противника. Партизанская разведка фиксировала все внутрифронтовые и межфронтовые перевозки, строительство оборонительных рубежей, районы накопления оперативных резервов противника, его базы снабжения, аэродромы и т. п.
По указанию советского командования партизанам Беларуси была оказана огромная помощь по подготовке к предстоящим операциям. Партизанские формирования получили необходимое количество взрывчатых веществ, боеприпасов и других средств. Всего за период подготовки к операции «Багратион» белорусским партизанам было заброшено 7832 тонны боевых грузов, в партизанские отряды было направлено 128 человек и вывезено в советский тыл 1953 человека. В числе боевых грузов было 49,2 тонны тола, 3606 винтовок, 920 карабинов, 470 пулеметов, 134 ПТР, 173 автомата ППС, более 8 млн винтовочных патронов, свыше 7 млн патронов «ТТ», более 26 тонн медикаментов, перевязочных материалов и многое другое[382].
Оперативное руководство боевыми действиями партизанских бригад и отрядов, организация их непосредственного взаимодействия с войсками Красной Армии, оказание им необходимой материально-технической помощи, как и на первом этапе освобождения, было возложено на оперативные группы обкомов, прикомандированные к военным советам фронтов, а также на представительства (опергруппы) БШПД при военных советах армий. За ними закреплялись и непосредственно им подчинялись партизанские формирования определенных районов или группы смежных районов. Например, опергруппам БШПД при штабе 1-го Прибалтийского (возглавлял И. И. Рыжиков) и при штабе 3-го Белорусского (А. А. Архангельский) подчинялись партизанские отряды и бригады Вилейской, Витебской, северной части Минской, дислоцировавшихся к северу от железной дороги Вильнюс-Минск-Орша и центральной зоны Барановичской областей.
С началом летнего наступления партизаны Беларуси, воодушевленные успешными действиями частей Красной Армии, усилили удары по врагу. Тесно взаимодействуя с наступавшими войсками, они дезорганизовывали оперативный тыл противника, срывали подвоз резервов к линии фронта, захватывали важные в тактическом отношении рубежи, населенные пункты, водные переправы, а в ряде мест переходили в решительное наступление против регулярных частей противника. Наступление Красной Армии и действия партизан слились в один сокрушительный кулак, который повсеместно нещадно громил врага.
Огромную помощь Красной Армии оказали своими слаженными действиями на путях отступления врага партизаны Витебской и северных районов Минской областей. Так, бригада имени А. Ф. Данукалова (командир В. А. Блохин), взаимодействуя с передовыми частями Красной Армии, вела упорные бои на участке Перевоз-Крулевщина и большаке Кубличи-Зарубовщина. За три дня, с 29 июня по 1 июля, она разгромила 601-й полк 201-й охранной дивизии, уничтожив при этом 432 и взяв в плен 36 солдат и офицеров, захватила много оружия, боеприпасов, различного военного имущества[383].
Витебские партизаны в районе Лепеля захватили в плен большую группу солдат и офицеров 406-го полка 201-й охранной дивизии. В плену оказался и командир этого полка Адольф фон Папен. В районе Плещеницы бригадой «Народных мстителей» имени В. Т. Воронянского (командир Г. Ф. Покровский, комиссар Н. И. Перепечко) 30 июня был окружен и уничтожен учебный батальон немецкой саперной школы. В бою, длившемся весь день, партизаны уничтожили 168 солдат и 12 офицеров противника, в том числе и начальника школы подполковника Альфреда Гаазе [384].
Впоследствии партизаны этой бригады совместно с танкистами генерал-майора А. А. Асланова участвовали в освобождении Вилейки, Молодечно, Сморгони. Партизаны других районов Минской области принимали участие в освобождении городов Минск, Борисов, Логойск, Слуцк, Червень, Смолевичи, Любань и др.
Значительное количество населенных пунктов, в том числе райцентры Копыль, Узда, Старобин, Красная Слобода, Островец, Кореличи, Свирь, Видзы и другие, было освобождено партизанами самостоятельно еще до прихода советских войск. Освобождая населенные пункты и удерживая их до прихода передовых частей Красной Армии, партизаны тем самым содействовали высокому темпу наступления наших войск.
Особенно активными были действия партизан на дорогах, по которым отступали войска противника. Они блокировали многие участки шоссейных магистралей и большинство грунтовых дорог, смело нападали на крупные немецкие колонны. Партизаны Могилевской и Минской областей держали под своим контролем многие участки шоссе Минск-Могилев, Могилев-Бобруйск, Орша-Минск, грунтовые дороги в междуречье Днепра и Друти, Друти и Березины, в треугольнике Борисов-Осиповичи-Минск. Упорные бои с отступающим противником вели здесь партизанские бригады «Разгром», «За Советскую Белоруссию», имени Щорса, имени газеты «Правда», 1-я Минская и др. Партизаны северо-западных районов Витебской области удерживали в своих руках шоссейные и грунтовые дороги, шедшие в сторону Даугавпилса. Партизанские бригады «Спартак», «За Родину», имени Жукова выдержали натиск врага и ко 2 июля совместно с подоспевшими войсками Красной Армии освободили Браславский и соседние с ним районы.

Партизаны бригады имени газеты «Правда». 1943 г.
Партизанская бригада «Железняк» захватила плацдарм на реке Березина по фронту в 17 км и удерживала его до подхода частей Красной Армии. Партизаны помогли саперам навести переправы у д. Броды и урочище Синичино, по которым переправились части 35-й танковой бригады под командованием генерал-майора А. А. Асланова.
30 июня 1944 г. исполняющий обязанности командира партизанского соединения «Тринадцать» Могилевской области С. В. Пахомов радировал начальнику опергруппы БШПД на 3-м Белорусском фронте А. А. Архангельскому: «С Красной Армией соединился. Нахожусь северо-западнее дер. Ушлово. Веду бои, задерживаю движение противника по большакам и дорогам. В ночь на 1.7. выхожу восточнее дер. Пупса… Жду дальнейших указаний. Генерал Файфер подорван в танке, убит. Его награды и знаки различия находятся у меня. Документы и обмундирование его сгорели. Личность генерала установлена опросом именного водителя танка и из конвоя генерала»[385]. Доктор Георг Пфейфер (Пфайфер) был генералом артиллерии, командиром 6-го армейского корпуса. 28 июня 1944 г. он попал в партизанскую засаду в Белыничском районе, на дороге между деревнями Стехово и Мокровичи, и подорвал себя вместе с бронемашиной.
Тесное оперативное и тактическое взаимодействие было налажено между командованием 61-й армии 1-го Белорусского фронта и партизанскими формированиями Пинской и Брестской областей. Выполняя приказ Военного совета 61-й армии и одновременно решая задачи, продиктованные обстановкой, партизаны Пинского соединения, начиная со 2 июля 1944 г. вели упорные бои с противником в районе Бостынь – Лунинец – Барановичи. В ночь на 2 июля бригада имени
В. И. Ленина (командир В. А. Васильев, комиссар И. В. Зиборов) совершила нападение на гарнизон станции Люща, а бригада имени С. М. Кирова (командир А. П. Савицкий, комиссар Ф. И. Лисович) – на гарнизон станции Бостынь. Бой длился до 5 июля.
5 июля 1944 г. Военный совет 61-й армии радировал шифром генерал-майору В. 3. Коржу:
«1. Противник стремился отвести свои силы, сохранившиеся от разгрома, через Лунинец.
2. Взаимодействующий с вами 89-й СК овладел Туровым и обошел Житковичи. 89 ск преследует противника в направлении Лахва-Лунинец.
3. Ваша главная задача: отрезать Лунинец с запада, на участке Лунинец-Парохонск и не выпустить противника до подхода 89-го стрелкового корпуса.
4. Лунинец брать трудно и поэтому будете брать совместно с 89 ск.
5. Сводки Информбюро иногда дают запоздалые сведения. Считайтесь с моими данными. А главное, имейте свое мнение и действуйте решительно. Уже близок день, когда мы встретимся.
Белов. Дубровский»[386].
8 июля 1944 г. в шифротелеграмме № 16 командования 61-й армии командиру 208-го отдельного партизанского полка имени И. В. Сталина Е. Н. Беспоясову отмечалось: «То, что Вы сделали на ст. Парохонск, – это хорошо. Но усильте Вашу активность и добейтесь невозможности пр[отивни]ку пользоваться дорогами от Парохонск[а] на Пинск. Через Лунин на Пинск идет 55 гсд. Вы с ней сегодня свяжитесь и донесите. Учтите, что В[оенный] с[овет] фронта Вас подчинил мне»[387]. Интересно, что шифротелеграмму подписали командующий 61-й армией Белов, начальник штаба Дубровский и секретарь Пинского подпольного обкома партии А. Е. Клещёв.
О том, что 208-й отдельный партизанский полк имени И. В. Сталина выполнил поставленную задачу, видно из шифротелеграммы № 10489, направленной начальнику БШПД П. 3. Калинину 10 июля 1944 года:
«В ночь на 9 июля разгромлен сильно укрепленный гарнизон противника – районный центр местечко Логишин, состоящий из кав[алерийского] полка изменников, полиции и фронтового батальона немцев, общей численностью до 1200 человек. На дороге Лунинец-Пинск в районе Сошно-Ермаки атакована колонна противника, шедшая на Пинск. В результате боя убито и ранено солдат и офицеров противника до 200 человек, убито лошадей – 175, сожжено 11 автомашин, из них 2 с боеприпасами, остальные с разным имуществом, 2 тягача, взорвано 2 паровоза, захвачен миномет, 2 пушки. Свои потери: убито и ранено – 53. В результате шестидневных боев израсходовано до 79 % боеприпасов. Выведено из строя 15 винтовок. Прошу боеприпасов. Беспоясов. Щербаков»[388].
14 июля 1944 г. командование полка в шифрограмме на имя П. 3. Калинина дало более подробные сведения о боевом взаимодействии с частями 61-й армии:
«Работая по приказу Белова, полк со 2 по 11 июля сделал следующее. Разгромил гарнизоны: Новый Двор – до 300 немцев (фронтовая часть), Сошно – до 100 немцев, станция Парохонск – до 500 человек, Гаршин – до 120 человек, гарнизон Мосты – 20 немцев, Крапки – 30 немцев. Атакованы колонны отходящих войск противника на участке Дубовичи-Городище. Всего в проведенных боях убито 600 человек. Уничтожено: станция со станционными сооружениями и оборудованием, эшелон с техникой, водокачка, шоссейный мост, два склада с боеприпасами, штаб фронтовой части, рельсов – 500, автомашин – 25, повозок – 6, пушек – 2, минометов – 2. Железная дорога Лунинец-Пинск не работала до подхода частей Красной Армии. Грунтовая дорога Дубновичи-Погост-Логишин была закрыта для отхода войск противника. Полк соединился с 55-й гвардейской дивизией 23-й армии в районе Дубновичи 11 июля»[389].
Продвинувшись в район Логишина, Пинское соединение партизан до 14 июля тесно взаимодействовало с Красной Армией, обеспечивая правый фланг 23-й стрелковой дивизии в направлении Твардовки-Ольшанки-Поречья. Партизаны отбили множество атак противника, наголову разгромили эскадрон мадьяр и взяли при этом большие трофеи. В ночь на 13 июля группа партизан в составе 200 человек, форсировав реку Ясельда, зашла в тыл фашистским частям в районе Холожин и ударила по батареям неприятеля. Противник вынужден был оставить огневой рубеж. Этот смелый налет партизан обеспечил успешное продвижение 23-й стрелковой дивизии[390].
Важнейшее значение для наступавших войск имел захват партизанами и удержание переправ на реках, а также помощь партизан и населения в возведении переправ и гатей в труднопроходимых местах. Архивные документы свидетельствуют о множестве таких примеров.
Партизанские бригады под командованием А. И. Шубы, К. Ф. Пущина, Г. Н. Столярова из Юго-Припятской зоны Минского соединения 26 июня 1944 г. захватили и удерживали до подхода Красной Армии переправы на реке Птичь и мост в районе Березовки Глусского района, сосредоточили в районе хутора Корша 40 лодок и плотов.
Одновременно партизаны соединения захватили и удерживали до подхода советских войск переправу через реку Случь на участке Старобин-Погост. Как развивались дальнейшие события, видно из шифротелеграммы № 10 123 начальника разведки партизанского соединения Минской области Н. П. Куксова начальнику БШПД П. 3. Калинину от 2 июля 1944 г.: «Главными силами в 16 часов 27 июня нанес удар с тыла по 3-й дивизии, 104-му авиаполку и штабу 35-й стрелковой дивизии. В результате убито 150, ранен генерал Роман – командир 35-й стрелковой дивизии. Сожжено автомашин – 3, мотоциклов – 3.
Захвачено: орудий – 3, автомашин – 2, мотоциклов – 4, минометов – 2, пулеметов -20, винтовок – 140, патронов – 60 000, снарядов – 1500, обмундирование, документы, гранаты, мины и другое военное имущество. Взято в плен 40 гитлеровцев, из них 2 немца, которые служили в авиационной части 28236 и 5258-к, взято 30 автоматов. Бои продолжались до 20 часов 28 июня. В результате действий группы в районе Березовка переправы захвачены Красной Армией: основные бои происходили в районе Бобровичи-Холопеничи. Наши потери незначительны»[391].
Захватив исправные переправы и восстановив разрушенные, партизаны оказали большую помощь войскам в форсировании рек Вилия, Птичь, Березина, Случь, Друть, Оресса, Щара, Неман и др., они также захватывали железнодорожные и шоссейные мосты и удерживали их до подхода частей советских войск.
В июле 1944 г. силами партизан под руководством генерал-майора Ф. Ф. Капусты были построены мосты на р. Котра в районе населенных пунктов Берта и Новая Рудня, в результате чего 6-я кавалерийская дивизия сумела сходу овладеть станцией Пожичи, захватив там 6 эшелонов с горючим, танками и другими воинскими материалами.
Массовое отступление гитлеровских войск, которое осуществлялось как по основным, так и второстепенным дорогам в западном направлении, давало возможность партизанам повсеместно проявлять свое умение и приобретенную партизанскую тактику. Здесь характерными были операции партизан по блокировке путей отступления, устройство летучих засад на отступающие колонны и группы противника. При этом наиболее эффективными были действия партизан, согласованные с командованием наступающих войск.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.